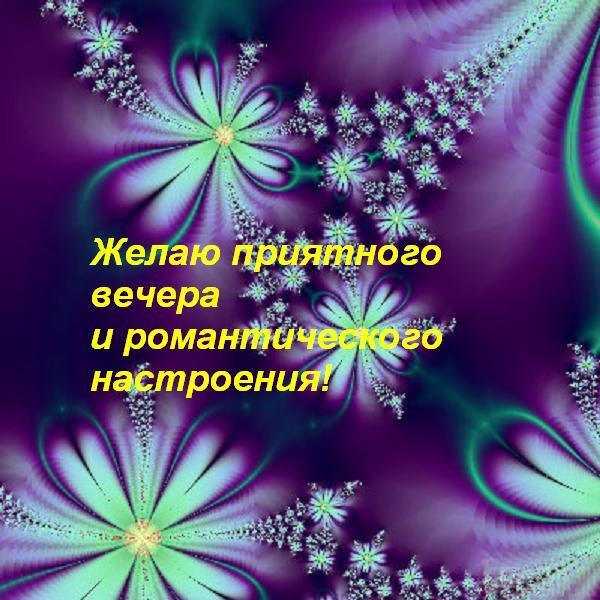Вдова жила на правом берегу, в казенном двухквар-тирном доме. Дом поставили из соснового бруса, затем, не обшивая, покрасили: одну половину в темно-серый цвет, другую — в темно-зеленый — как того пожелали хозяева. Иван, помня объяснения Таборова, открыл зеленую калитку. Во дворе на качелях, привязанных меж двух берез, сидел мальчишка лет шести, сидел, видать, давно, потому что носишко его напоминал молодую розово-лиловую картофелину и мокро блестел; глаза, в общем-то голубые, от холода перешли в какой-то белесый стылый цвет — сизозанемевшее лицо согревали лишь два теплых овсяно-желтых листика, прилипших вместо бровей.
— Здорово, — Иван протянул мальчишке руку, тот сунул свою, маленькую, холодную рыбешку и быстро отдернул, спрятал в карман телогрейки,
— Шефствовать пришел?
— Да не знаю. Как получится. Тебя, может, качнуть?
— Давай, только быстро. А то мать увидит, качель
снимет. «Вовка, нельзя, Вовка, не смей», — слов других не знает.
— Значит, ты Вовка? Вовка-морковка.
— Не, меня так не дразнят. Вовкин-суровкин — вот как.
— А кто дразнит-то?
— Девчонки и мать. Тут кругом одни девчонки живут.
— Ты суровый, что ли?
— Нет, строгий. А тебя как звать?
— Ванька.
Мальчишка рассмеялся.
— Ты почему так говоришь?
— Ваньку валяю.
— Валяют дурака — я знаю.
— Нет, и Ваньку тоже валяют, — весело вздохнул
Иван.
— Давай, я тебя буду звать Ваня. Без всяких отчеств
и дядей.
— Договорились. Никакой я тебе не дядя.
— Матери скажешь, что разрешил так звать?
— Скажу.
— Тогда качай, Ваня.
Разлетевшись, раскачавшись, не удержав сладкого ужаса, Вовка звонко и тонко ойкнул. На крыльцо выскочила женщина, простоволосая, в легоньком затрапезном платье, в галошах на босу ногу — видимо, мыла пол.
— Опять за свое? Вовка?! Осатанел, да? Давно на нервах не играл? — Она спрашивала, укоряла, но не кричала, и потому визгливые нотки не залетали в ее мягкое,чуть глуховатое контральто.
Иван, улыбаясь, загородил его.
— Это я осатанел. Здрасте. Иван Митюшкин прибыл на подмогу. Таборов велел кланяться.
— Извините, перепугалась —поздороваться забыла. — Она не улыбнулась при этом заученно гостеприимно, не смутилась вслух: «Ой, я в таком виде», — а молча задержала темные неподвижные глаза на Иване — запоминала новое лицо. — Татьяна я. И чего это Таборову не сидится? Двадцать раз ему говорила: не посылай больше, хватит, у меня головы уже не хватает заделье придумывать. Все сделали, спасибо. Чего людей гонять? Вы недавно в бригаде?
— Третью неделю. Холодно сегодня — остынете
так-то.
— Ничего. Заходите в дом, сейчас чаи поставлю. Правда, уборка у меня, не знала, не ждала.
— Чай еще заработать надо. Так-таки нечего делать?
— Есть, есть, Ваня. Дополна работы, пошли, — Вовка потянул Ивана. — Сама ворчишь, ворчишь: в сарае черт ногу сломит —и вдруг: дела нет.
— Всё, Вовка. Конец! — Она беспомощно всплеснула руками.— Опять «тыкаешь», опять ровню нашел, из детсада дружка привел! Сколько говорить: нельзя так со взрослыми!
— Ваня, скажи.
— Помню, Вовка, помню. Мы с ним решили на «ты», чтоб головы не морочить. Может, по педагогике-то и не так выходит, зато душевней.
— Ну и сын у меня! Стоять бы тебе сейчас в углу, Вовка, ну да к вечеру заработаешь — день длинный, успеешь нашкодить.
В сарае не только черт, но и человек сломал бы ногу. Доски, ящики, узловатые витые чурбаки, которые не возьмешь ни одним колуном, рваные сапоги, туфли, телогрейки, горы пыльных банок и бутылок — вся эта дребедень с какою-то мелочною, незначительною настойчивостью напоминала: в доме давно нет хозяина. Иван поморщился: «Как ржа. Как моль в запертом сундуке. — И пожалел Татьяну: — Боится, наверно, даже заходить сюда. Чужой глаз не видит, и ладно. Туда-сюда ведь мечется — не разорвется. Не до сараев, не до хозяйства: пацана растить да деньги зарабатывать — больше в таком случае ничего не успеешь». Сначала он решил сколотить ларь под уголь и, пока вытесывал стойки, велел Вовке перетащить на огород рванье и тряпье: «Костер потом запалим, картошки напечем». Чурбаки выбрасывать пожалел, собрал их в поленницу: «Может, когда еще приду, клин захвачу, все переколю». Затем разбил ящики — вот вам и готовая лучина, отнес за сарай банки и бутылки и между делом, по пути, смастерил Вовке хоккейную клюшку: вытесал из доски рукоятку, сделал на одном конце запил и вставил в него дощечку от ящика. Пара гвоздей, подвернувшийся моток изоленты, и Вовка, сдерживая восхищение, развесил под носом такие провода, что Иван головой покачал:
— Хороший ты, Вовка, мужик, но сопляк.
Тот быстро обмахнулся рукавом, попримерялся к клюшке и побежал в дом показывать.
Потом они жгли костер, ели обугленную, хрусткую картошку — губы сразу облепила черная окалина; по очереди пробовали клюшку на новой шайбе, которую Иван вырезал тут же из старого каблука, и Вовка все спрашивал:
— Ваня, ты где раньше был? Нет бы летом появиться — хоть бы плавать научил.
— А у тебя что? Языка нет? Взял бы крикнул, позвал. Я бы мигом примчался.
Вышла на крыльцо Татьяна:
— Эй, работнички. Пора и ложками поработать.
Ее усмешливо-спокойный, глуховато-мягкий голос вдруг приобщил Ивана к странному ощущению: вроде бы однажды он уже шел к этому крыльцу, вот так же бодро умаявшись на домашних работах, вроде бы уже испытывал умиротворенность и довольство от домашнего голоса, звавшего к столу. Иван потряс головой: «Ты чего это, парень? Не было такого и быть не могло».
Она переоделась и была теперь в темно-вишневом платье с широким узорчато-резным воротником и широкими же манжетами-раструбами, отделанными шелком более светлого колера. Платье явило стройный стан и напряженно, туго очертило грудь; его темно-вишневое тревожное свечение как бы отдавалось, отражалось в глазах, тоже темно-вишневых, но с некоторою долею медово-золотистого блеска. Вишневые отсветы падали и на смуглое лицо, с какой-то томительною тонкой печалью углубляя тени в скульных впадинках, прелестно, легко касаясь высокого лба. Темно-медовые тяжелые волосы Татьяна собрала в узел, и он, отягощая голову, замедлял ее повороты, наклоны, придавая этим движениям несколько надменную плавность.
«Может, из-за меня так оделась? Все-таки гость»,— подумал Иван и, показывая, что он человек с пониманием, заметил:
— К лицу вам платье. Очень идет. Хоть на вечер сейчас, хоть в театр — все оглядываться будут.
Давно не говорил Вовка, прямо измолчался весь.
— Бабушка Тася уж ругает ее, ругает. Как, мол, не
жалко обновку на дом тратить. А устанет ругать и запоет: ох, Танька, хоть под венец тебя сейчас.
Татьяна схватила со стола ложку, замахнулась, но Вовка отпрыгнул.
Иван вздрогнул и, хоть замахивались не на его лоб, невольно отпрянул. Опомнившись, рассмеялся.
— Думал, и мне по пути попадет. Ну и строга у тебя
мать, Вовка.
Татьяна погрозила ложкой.
— Теперь от угла не отвертишься! Не хватало еще — мать просмеивать!
— А где эта бабушка Тася? — спросил Иван.
— Да с Вовкой тут домовничает. Ночью-то одного нехорошо бросать.
Иван уже знал, что Татьяна работает ночным диспетчером на автовокзале.
— Ну да! Домовничает! Чай целый вечер пьет — ни сказки не дождешься, ни поиграть. Мать мне конфет купит, а я и попробовать не успеваю.
— Молчи. С тобой сидеть — золотом платить надо. Ладно, давайте за стол.
Она достала из самодельного шкафчика-холодильника, вделанного в стену под окном, бутылку водки, и Иван будто сейчас только вспомнил, вскочил, бросился к вешалке, выхватил из пальто свою, загодя купленную.
— И я ведь припас. Думал, с устатку-то сам бог велел.
Татьяна впервые улыбнулась: влажно и сочно приоткрылись губы, весело заблестели ровные, плотные зубы, а глаза оставались при этом сосредоточенно спокойными.
— Так я и знала. У меня эта бутылка сто лет простоит. Кто ни придет, только соберусь угостить — свою достает. Даже неудобно.
Ее улыбка смутила Ивана. «Смотри, как серьезно улыбается. Вроде как при себе только малый запас веселья держит, а главный где-то в другом месте». И он непостижимым образом понял, ознобно догадался, что его долго будет смущать эта улыбка, он изведется, разгадывая ее смысл, сердце изболится от этого неизъяснимо волнующего несоответствия: влажный, сочный, веселый рот — и спокойные, нестерпимо спокойные глаза. Он опять одернул, оборвал себя: «Что-то много тебе сегодня мерещится. Сильно впечатлительный стал».
— Ну, ваше здоровье!
— Спасибо. За помощь спасибо.
— Корочку, корочку на! Занюхай, Ваня!
— Счас, Вовка, счас. А потом тобой закушу.
Вскоре омыло душу, освежило волной особой горячей доверительности, когда непременно тянет откровенничать, искать ласковые, дружеские слова для человека, сидящего напротив. Ивана подмывало сказать, что он распрекрасно понимает, как несладко Татьяне живется. Что вдовью долю, может, и скрашивает людская отзывчивость, но веселее ее не делает, что Татьяна молода и красива и жизнь еще повернется к ней счастливым боком. Но совестно ни с того ни с сего жалеть и утешать человека, поэтому для разгона Иван начал издалека:
— С твоим хозяйством, Таня, замаешься... — запнулся удивленно вытаращил глаза, точно у Татьяны спрашивал: не знаешь, мол, что это со мной. —Ои, извините!
— Да чего там, «извините». Давно уж попросту надо было. Из таборовской бригады — и «вы», «вы»-— мне как-то даже дико. Так что уж больше не извиняйся.
— Вот и хорошо, — сказал Иван. — Я тоже сначала хотел без всяких «вы» — по-товарищески. Но, думаю, кто ее знает, может, не понравится.
— Понравится, понравится.
— Так я о чем, Таня. Замаешься, говорю, с таким хозяйством. Зачем тебе эти печки, уголь, огородище вон какой. Возьми да сменяй на благоустроенную. Охотников, знаешь, сколько найдется? Из деревни же народу дополна, а им только дай свою грядку, свою ограду, сараи этот — с руками оторвут.
— Да нет, возиться неохота, — ответила она безразлично, ровным голосом, и что-то на миг переменилось в ее лице: то ли дрогнули глаза, то ли легкой хмурью тронуло лоб, то ли губы задело неуловимо скользнувшей горечью. Иван не понял, что, а лишь вновь непостижимым образом догадался: не стоило говорить о доме и впредь даже заикаться о нем не надо.
— И то правда. Я ведь так —случайно сказал
—«Видно, другую жизнь в этом доме помнит. Видно, очень хорошую жизнь. С чего бы она тогда за него держалась? И в эту жизнь никого не пускает. Заповедник, запретная зона, но ведь молода, молода, четвертную не разменяла! Что ли, думает —и впереди у нее одно прошлое.-' Вот же не повезло девке! Сколько, однако, в ней спокоя! Но такого, что вроде как дрожит вся, на что решится — ни остановить, ни уговорить. Да, с душой, с душой девка!
Хоть плачь... Однако пора за шапку браться»,
Иван встал.
— Ну ладно, нагостился. Спасибо, как говорится, за хлеб-соль.
— Как не стыдно, Иван! Уж кому спасибо говорить,
так мне. Таборову кланяйся. Заходи когда и не с помощью. В общежитии ведь живешь? Ну вот. И заходи чаевничать с домашней стряпней. Передышка от сухомятки будет. Ну, спасибо тебе большое.
Ему показалось, что она облегченно вздохнула, когда он поднялся. «Интересу ко мне никакого! Да и с чего интерес-то? Подумаешь — горы свернул. Расселся, водку
пью, советы даю — хорош гусь! Не знала, наверное, как избавиться».
— Ваня, Ваня, придешь, а? Приходи, катушку сделаем. — Вовка как-то покинуто и одиноко топтался возле него. — Дай честное слово, что придешь. Ваня, может, сыграем во что-нибудь?
— Хоть кем быть, Вовка, приду. Москву показать?
— Больно, Ваня. Но так и быть — покажи.
— Шучу, Вовка. Мы после повеселее что-нибудь придумаем. Пока. И мать слушайся. А то никаких катушек.
В автобусе Иван закрыл глаза, чтобы получше увидеть прошедший день, и неожиданно для себя протяжно, с жалобным всхлипом вздохнул — и раз, и другой, и третий. Не открывая глаз, улыбнулся, что ему так вздыхается. И решил: «Завтра съезжу к ним. Скажу, что погреб забыл доделать. Или еще что-нибудь. Съезжу, съезжу — чего там».
Назавтра, собираясь на правый берег, Иван не стал покупать водку: «И там откажусь. Подумает еще — каждый день поливаю. Ох, и догадливый же ты стал — спасу нет! Сильно догадливый!»
Она удивленно отступила, открыв дверь:
— Ваня, здравствуй! Забыл чего?
— Вспомнил, что погреб еще не вычистил. Ну и примчался.
Она была в том же темно-вишневом платье, так же подобранна, спокойно-раздумчива, и так же неподвижны были темные, с золотисто-медовым отливом глаза. — «Нет, вчера мне не спьяну показалось,— подумал Иван.— Много, много в ней спокою, но уж так она его хранит, держит — не подходи! Да и не знаю я никаких подходов. Как будет, так будет!»
Из комнаты вырвался Вовка:
— Ваня! Катушку или что будем делать.
— Поздоровался бы сначала.
Татьяна в упор с какой-то равнодушною приветливостью рассматривала Ивана. Он смутился, смешался, глупо увел глаза в потолок — ни дать ни взять великовозрастный Вовкин приятель, мнущийся у порога.
«Недовольна, что пришел. Может, собралась куда или, наоборот, ждет кого. А я явился не запылился. Не убегать же теперь. Да и как я ей помешаю? Я с Вовкой буду. А она — хоть на все четыре стороны!»
— Может, плюнешь на этот погреб, Ваня? Мне он ни к чему.
— Надо уж до конца довести, раз взялся. Я, наверно, не ко времени?
— Не в этом дело. Просто необязательно на нас и воскресенье тратить.
— Не бойся, не на вас. Себя не знаю куда деть.
— Смотри, Ваня. Если уж так работу ищешь, работай.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.