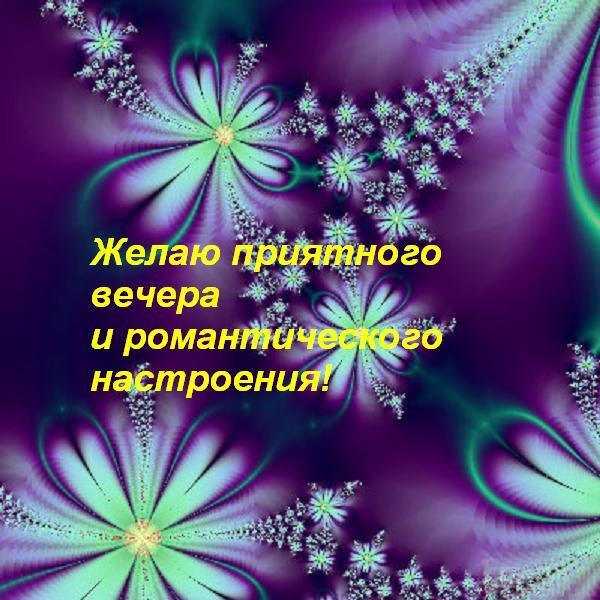Он служил в Забайкалье, на пыльном и ветреном полигоне. Ветры так надоели ему, что он поклялся: «Отслужу— и на юг. Только на юг. На солнышко, на песочек, под вечную зелень».
Отслужил весной: в зеленовато-прозрачном воздухе отдаленно и нежно сквозили сопки, и дрожал над ними, веял малиновый багуловый дым. Прощаясь с позеленевшим, повеселевшим полигоном, признался: «Помучил ты меня, а все-таки жалко. Пока. Прощай — до свидания».
Уехал на Каспий, нанялся слесарем на нефтепромысел и беспечно, весело, трудолюбиво прожил там год. С людьми сходился легко: был не жаден, смешлив, простодушен — ничего не таил за душой, да и таить-то нечего было!
В пышном, утомительно пышном, апреле вновь собрался в дорогу: «Нет, ребята, поеду. Не знаю куда, но поеду. Я теперь вечный дембиль».
Попал на Северный Урал, к геологам, и охотно согласился с кочевым житьем-бытьем. Копал канавы, уставал и сам себе объяснял, как бы заговаривал усталость: «Ни-чо, ничо. На то и работа, чтоб уставать».
Геологи квартировали в таежной деревеньке, у бабки Веры, и она как-то сказала ему:
—Уноровный ты, Ваня. Шутя жизнь проживешь.
Никому в тягость не будешь.
Он засмеялся:
—Себе вот только малость надоел. Деться бы куда.
Не знаешь?
Отведя сезон, при свете догорающей осени он обнаружил: опять заныла, запросилась куда-то душа и даже слушать не захотела о близких холодах, метелях и прочих зимних страстях.
У вокзальной карты Иван вспотел, измучился, ища город, в котором стоило бы пожить. «И там можно...
И там... А там вообще малина, да вот нас нет. Тьфу на эту географию!» Он подскочил к справочному автомату, ткнул в беловато-желтую клавишу — судьба злорадно защелкала, захлопала металлическими ладонями: сейчас упеку этого Ивана Митюшкина в распоследнюю дыру! Но где-то она просчиталась и выбрала ему Братск - место на земле заметное.
Вагонного новоселья справить не пришлось: в его купе ехали две старушки и молчаливо-испуганная девчонка, видно, впервые разлучившаяся с домом. Не сыскалось компаньонов и в других купе: все мужики, как назло, путешествовали с семьями и были погружены в беспросветные хлопоты. Верно, один от Иванова приглашения прямо-таки затрепетал и уже потянулся повеселевшим лицом к выходу, но тут на него обрушился тяжелый, горящий, гипнотический взгляд жены, и мужик сник, вяло плюхнулся на лавку. Безжизненным, тусклым голосом отказался:
—Нет, парень, спасибо. Что-то неохота, настроения
нет.
Иван погоревал, погоревал, но вскоре утешился, вспомнив веселых девчонок-проводниц, удививших при посадке бойкой шоферской прибауткой:
—Милости просим! Куда надо подбросим!
Из корзины проходившего буфетчика Иван взял гостинцы— конфеты и яблоки — и немедля объявился у проводниц.
—Привет, девчата. Прибыл по вашей просьбе.
Они грызли семечки, сосредоточенно и отсутствующе
уставившись друг на друга. У одной волосы были нестерпимо белые, у другой — нестерпимо рыжие; щедро чернели ресницы и веки; губы отливали перламутром; щеки плотно облепляла пудра — ни дать ни взять родные сестры, вышедшие из утробы одной парикмахерской.
Иван положил гостинцы на столик:
—Будем знакомы. Угощайтесь, девчата.
Девчонки вздрогнули, очнулись, вынырнули из дремотной пустоты.
—Спасибо, мальчата.
Они неожиданно, дружно всхохотнули «—теперь вздрогнул Иван. Рыжая спросила:
—Тебя как понимать? Конфеты, яблоки... Смотри,проугощаешься.
—В женихи набиваюсь — не видно, что ли? Без пряников ни шагу.
—Ага, жених! Насмотрелись на таких. В три места алименты платишь — и опять жених!
—Ну, ты меня приговориила! Сразу жаром пробило!— Иван нахмурился, губы подобрал.— Нет уж! Холос¬той я и не женатый! Хоть по паспорту, хоть по совести.
Знакомясь с девушками, он непременно сообщал эту биографическую подробность, причем с совершенной серьезностью. «Мало ли, — рассуждал он, — вдруг из знакомства что-нибудь другое получится — заранее не угадаешь. Тут без тумана надо, чтоб человек в случае чего рассчитывал. Ведь когда без тумана, сердце вольней определяется. Ив знакомстве интерес появляется. Наверняка любой парень, любая девушка так думают: а вдруг? Нет уж. Тут не до смеха».
—Правда что жених. Садись.— Рыжая качнулась на лавке, но не подвинулась. — Зойк, может, все-таки глянем в паспорт?
—Обойдемся. Поверим. Раз с конфетами, значит, жених. Алиментщики так норовят — без конфет.
—Ну садись, садись, жених. — Теперь рыжая подвинулась.— Скорей угощай да невесту выбирай. Ох ты! Как складно заговорила! К чему бы это?
—Не могу, девчата. Глаза разбегаются. — Вздохнув протяжно и громко, Иван присел.
—Зойк, поможем доброму человеку? Ты его хвали, а я ругать буду. Перехвалишь — твой, я переругаю — мой. Как понимаешь?
—Давай.
Рыжая прищурилась, этак приценилась к Ивану — с одного бока, с другого, откинулась и прежним прищуром охватила Иванову внешность.
—Да-а, хорошего мало. Нос кочерыжкой, глаз какой-то мутный: то ли зеленый, то ли голубой, бровь жидкая— поросячья, ресница телячья, волос — как у чучела соломенного, уши — торчком. И вообще жердь тощая — вон слышно, как кости гремят.
—Не скажи, товарка. Женишок что надо, и даже чуть получше. Лицом белый, губки алы, брови шелко-вы— не парень, а девица красная! Нос размерный да прямой, ноздри чуткие — дом всегда учует, не заблудится. Волосы орехом светятся. Сам статный да ладный: обнимет—сладко будет!
—Вот девки! Ну, девки! —восхищался Иван.— Ну,
братва!
Вскоре он щепал лучину для титана, шуровал уголь в топке новенькой аккуратной кочергой, сделанной им из случайного стального прута на память девчонкам; потом чинил задвижку в тамбурной двери, ходил по вагону и менял перегоревшие лампочки, чинил, верно, на скорую руку, репродуктор в коридоре — тягучее дорожное время вдруг подобралось, спружинилось и приударило о бок поезда, часы замелькали, как шпалы. Разохотившись, Иван сбегал за обедом для старушек из своего купе, покатал на спине зареванного мальчонку, пока его родители тушили какую-то внезапную свару, и, не в силах успокоиться, унять приступ привычного добросердечия, Иван попробовал разговорить испуганно-молчаливую девчонку, впервые расставшуюся с папой и мамой. Она ревела в тамбуре у ночного, черного, тревожного окна.
— Далеко едешь? —спросил Иван.— Да не реви, не реви ты. Сейчас разберемся.
— В Та-а-йшет.
— Работать, в гости? Подожди, подожди, успеешь нареветься. Как тебя — Нина, Галя?
— Та-а-амара. Педучилище кончила.
— Ну-у! Здорово! Учителка — большая специальность. Страшно, что ли, — ревешь-то?
— Да! Одна же буду. Никого не знаю, папу с мамой жалко.
— Слезы-то у тебя из-за ночи. Ночью всегда реветь охота. Утром сама удивляться будешь и смеяться. Был я в Тайшете, жил — замечательный городишко. — Иван остановился, придумывая, как бы дальше соврать позавлекательней и пободрей. — Учителей там не хватает, приедешь—на руках будут носить. В школу — на руках и из школы — на руках. Кормить с ложечки будут.
Девчонка улыбнулась— тусклая тамбурная лампочка дрогнула, прыгнула во влажных глазах и рассыпа-лась мелкими блестящими брызгами.
— Устроишься, Тамара, пиши. Повеселеешь, карточку пришли. Или давай сначала я напишу: до востребования, Тамаре-плаксе. Ладно?
— Да, да, — она торопливо вытирала глаза худенькими, острыми кулачками.
Красноватую усталую землю Братска освежил первый снежок, сухой и легкий. Припорошенные, похорошевшие руины начатых котлованов, фундаментов, этажей, белые наметы-мыски на кабинах тракторов и бульдозеров, враз позвучневший, налившийся какой-то веселою силой воздух— все это утверждало власть снега над людьми. Они как бы смутились белизны, безжалостно явившей их грубость, некую душевную резкость, суету, и люди присмирели, замедлили голоса и шаги, поутишили расторопность рук и поглядывали друг на друга с неловкими улыбками: как же это мы? Столько покоя в природе, а мы как с цепи сорвались, — рвем и мечем! Давайте хоть на время пыл-то поубавим!
Иван тоже поддался влиянию снега: снял шапку, расстегнул пальто, шел потихоньку берегом и прислушивался к странному желанию, созревавшему в нем. Наконец оно определилось, остановило его под тонким молодым кедром, зеленое буйное пламя которого никак не могли заглушить пенные, белые, беззвучные потоки. Иван несильно дружески похлопал темно-матовый гладкий ствол — хлынуло, зашуршало, осыпало, овеяв благодатным, морозно-пахучим дыханием. И ведь не жарко было, вовсе не жарко, а вот поди же!
Он забыл, что идет в самый главный котлован, которого еще не видел, что в кармане — бумага из отдела кадров, что предстоит знакомство с бригадой, и неизвестно, как она его примет, — все это Иван забыл, стоя перед кедром и дожидаясь, когда совсем растает попавший за шиворот снег и тоненькими, прохладно-щекотными языками лизнет спину.
В котловане первого снега не заметили, да он, верно, и не достиг земли — затерло его, не пустило бесконечное движение: с грохотом вращалась карусель самосвалов, тракторов, бульдозеров; там и тут всплывали ковши экскаваторов, точно люльки колеса обозрения; краны раз махивали руками: пожалуйте налево, пожалуйте направо — этакие ярмарочные зазывалы, и перекликались-то они с ярмарочной бойкостью, не жалея глоток. Человеческий голос, конечно, пропадал, но тем не менее казалось, что люди все же орут, свистят, хохочут, посильно участвуя в этой празднично-рабочей неразберихе.
«Ничего себе, весело у них», — несколько потерянно
подумал Иван, но тут же нашелся, отскочил, отбежал от тысячеустого, тысячерукого котлована в сторону, взобрался по узкой деревянной лестнице на скалу и присмотрелся: «Так... Спокойно, спокойно. Сейчас все сообразим и поймем. Ага, там подземный ход пробивают, там, видно, дно чистят, там, за щитами, бетонируют — так, таак... Как говорят буряты, совершенно очевидно. А там у них, должно быть, столовая — народ больно квелый выходит. Все, пойдем бригадира искать».
Когда ему показали: «Вон твой Таборов», — Иван опять не поспешил со знакомством, а прежде рассмотрел бригадира издали и попробовал мысленно перекинуться с ним двумя-тремя словами, чтобы хоть немного привыкнуть к человеку, а там, глядишь, и натуральное знакомство легче пойдет. «Говоришь, лет тридцать тебе, не больше? Хорошо. Молодой молодого лучше понимает. Горластый, поди? Все ж начальник? Нет? Хорошо-о! Вроде бы и правда, не должен горло драть. Комплектный, тяжелый, здоровый — вон плечи-то разнесло, хоть в цирк иди. Такие вроде не крикуны. Зачем тебе кричать, когда сила есть? Вот и я так думаю».
Бригадир в самом деле был крепок, широк, невысок, с крутой, просторной грудью: стукни в такую —и кулак отшибешь, а в ней лишь отзовется на удар рокочущее гулкое здоровье. Большая голова на короткой неохватной шее, которая пустила два мощных плечевых корня; румяные, тяжелые щеки, еще тяжелее скулы — в несоответствии с ними аккуратненький девически нежный носик, глаза густо-серые, даже несколько в чернь ударяют. Грудь бригадира обтянута порыжевшим флотским бушлатом, в вырезе бледнеет треугольник вылинявшего тельника —то ли в память о действительной не меняет на спецовку, то ли с умыслом, угождая особой своей должности: «Я ведь из флотских. Могу и резко. Так что давай, прораб, не жмись. И наряды от души закрой, и новый фронт чтоб по уму был, с размахом. Морская душа простор любит».
Бригадир сунул Ивану короткопалую, широкую, жесткую ладонь:
— Таборов, Афанасий. — Взял негнущимися, черно-задубелыми пальцами бумагу из отдела кадров, не читая, сунул в карман.«— Где бывал, что видал?
Иван ответил: там-то и там-то, работал тем-то и тем-то.
— Кантуешься, значит?
— Нет, работаю.
— Плотничал?
— Было.
, .— Арматуру хоть раз видел?
— Приходилось.
— Так что же ты! Что стоишь? Лясы точишь. Иди и работай. Время-то, время—ни секунды не вернешь! — тихо прокричал Таборов с болью и дрожью в голосе.
— С тобой что? Ушибло? Ты чего со мной, как в кино? Артист, что ли?
— Со мной — в норме. Но ты меня с одного раза должен запомнить. Удивляйся и иди. Вон к тем ребятам на опалубку колонн.
— Ясно. Пошел. Значит, у тебя прием такой? Человеку мозги спутать, и чтоб он потом разбирался: кто же такой Афанасий Таборов? Странный, однако, мужик, надо с ним поосторожнее. Так, что ли?
— Примерно.
— Тогда учти: я работать приехал, а не о тебе думать.
Далеко уйти Таборов не дал.
— Эй, Митюшкин. Забывчивый я стал, стерпи еще
пару слов.
Иван вернулся.
— Про время я тебе как сказал? А-а! Уже и не помнишь? Ни одной секунды не вернуть — вот как! Время!
Какое время мимо летит! Со свистом, быстрее звука! —Таборов опять прокричал это тихо, чуть не пристанывая,и быстро развел, распахнул руки, точно хотел в охапку сграбастать время, обнять его, к груди прижать. Затем спокойным, обыкновенным голосом заметил: — А мы по свисту только и догадываемся, что оно пронеслось. У меня дед был, так он за целую жизнь не научился время узнавать. Ему братан с войны часы швейцарские привез, носить их дед носил, но без завода. Чтоб только глаз тешить. Спросишь его: «Дед, который час?» — он Швейцарию эту достает, пощурится на нее, спрячет, откашляется и изречет: «Идет времечко-то, идет...» А! Что скажешь,
Митюшкин?! Чувствовать время надо, чувствовать! —
снова вскрикнул Таборов.
Иван молча отмахнулся, повернулся и пошел, решив больше ни за что не останавливаться: «Может, он меня на треп проверяет? Сколько он, мол, байки, может слушать и не работать? Однако нет. Видно, любит, чтоб
последнее слово за ним оставалось. Дана здоровье! Ну п на психику для первого раза давил. Дело хозяйское — мне деваться некуда. Всякие, конечно, новички бывают. И по-всякому пытать их можно. Совершенно очевидно. Ну, ничего. Недельку-другую поработаю — увидят. И бригадир, и кому еще охота увидеть. Тогда и разговор другой!»
А работать Иван любил, и ему, в сущности, было неважно, какой инструмент вкладывает в руки жизнь: кирку ли, плотницкий ли топор или слесарные тиски, — он любил разную работу, причем не из-за куска хлеба, пусть даже с маслом, с красной икрой. Он любил загвоздки, «спотычки», как он их называл, непременно украшающие любое, самое простое дело. Вроде куда как просто землю копать: ломай, знай, спину — и вся работа! Но вот камень, к примеру, пошел — спотычка для рук: ни ломом, ни киркой не возьмешь. Тут и соображай: то ли костры жги, накаляй камень и водой потом рви, то ли сцепление природное ищи да по шву по этому и примеряйся, выковыривай булыги, то ли вбок подкапывайся, ломы заводи под каменное пузо да через самодельные блоки вытаскивай — одолеешь такую спотычку, и не столько руки хвалишь, сколько голову: «Догадалась же, а?! Сочинила, родимая, не подвела!» И таким умным себе покажешься, таким непобедимым, что только и остается сесть на земляной отвал, из дрожащих, испугавшихся было рук получить папироску, хлебнуть сладкого дыма и еще раз счастливо, будто не себе, удивиться: «Чисто сделано, ах ты!..»
Бригада вскоре перестала замечать Ивана, увидев, что человек работает на совесть, присмотра не требует, ученические слюни не распускает, знает свое дело и свое место. И Таборов однажды сказал нормальным голосом, без прежнего куража:
— Чуешь, Митюшкин, время! Чуешь! Уважаешь скорость и совесть. Одобряю. — В его широкой жесткой горсти сразу же занемела Иванова рука. — Дело, Митюшкин, дело к тебе есть. Дело-просьба. Так говорил Сашка Павлов. Бригадиром до меня был. Сашка в позапрошлом году разбился — со скалы упал. Точнее — сорвался. Жена с пацаном осталась. Мы ей, ну, те, кто Сашку знал, чем можем, помогаем. Дров привезти, наколоть, воды натаскать на неделю, во дворе порядок держим. Ясное дело. Вот плохо, старичков все меньше остается — жизнь растаскивает то в одну, то в другую сторону. Новичков просить вроде неудобно: кто им такой Сашка? Никто. Да и за отказ винить не будешь — люди разные. А гну я вот к чему. Давно у Сашкиной Татьяны не были. Завтра суббота, я хотел поехать, но в подшефной школе ждут. Остальные на меня пронадеялись, и кто куда пособирался. Сильно неудобно, но может, ты съездишь? Или тоже куда-нибудь снарядился?
— Нет, могу съездить. Запросто. — Ивану польстила просьба Таборова: «Во. Меня уже не обойдешь. Серьезного мужика сразу видать».
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.