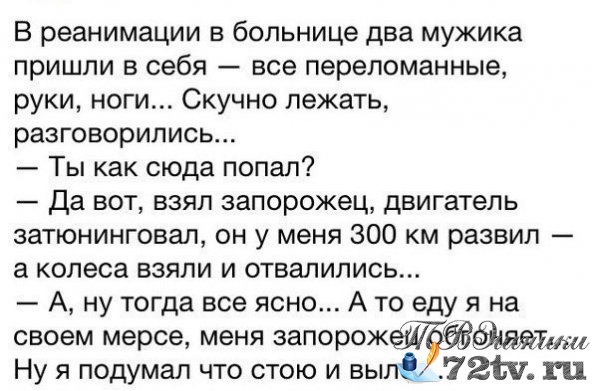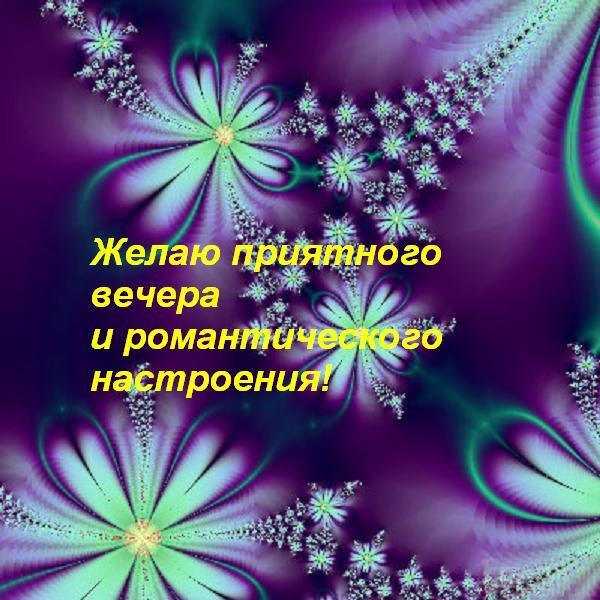За эти дни, что Павлик не видел отца, тот еще больше похудел и осунулся, в его небольшой каштановой бородке будто прибавилось седины. Но глубоко запавшие глаза смотрели уверенно, с надеждой и радостью, словно где-то невдалеке видели конец несчастий.
За спиной у Ивана Сергеевича на двух веревочках висел узел, а в руках он держал инструменты, назначения которых Павлик тогда еще не знал,— эккер в маленьком желтом ящике, тренога к нему, стальная мерная лента и деревянная вилка для измерения толщины дерева.
Всего этого в первый момент Павлик, ослепленный радостью, не разглядел. Взвизгнув, плохо видя сквозь сразу брызнувшие слезы, он бросился к отцу, обхватил его шею обеими руками, уткнулся лицом в грудь и заплакал.
— Постой. Ты меня опрокинешь, сын,— с усталой улыбкой сказал Иван Сергеевич, ощупью ставя к стене инструменты.— Что с тобой?
— Это он с радости, Ванюша,— отозвалась бабушка, стоя на пороге.— Он ведь за тобой следом бегал, да заблудился... не догнал...
Она стояла на пороге, держась рукой за дверной косяк, и с доброй улыбкой смотрела на сына к внука.
— Ну, проходи, проходи. От лесничества шел?
— Да.
— Не ближний край! Пашенька, да погоди ты, глупый. Дай вздохнуть отцу — ишь он сколько верст отшагал...
Павлик на секунду оторвался от отца, быстро и благодарно взглянул ему в лицо и снова прижался к его груди. Как, какими словами мог рассказать он отцу о своем одиночестве, о своей тоске? И если рассказать, разве поймет: взрослые так часто ничего не понимают! И он снова судорожно прижался к отцу, не стараясь удержать слез. Иван Сергеевич взял сына за плечи, повернул, подтолкнул впереди себя, и они вместе вошли в кухню.
— Успокойся, малыш. Ничего плохого ведь не случилось. Ты думаешь, я обманул тебя тогда? Нет! Если бы ты не спал, мы бы с тобой быстро договорились, я в этом уверен... Ты же у меня умный, мужественный...
Ну, довольно, не девочка!
И Павлик утих. Сияющими глазами следил он за тем, как отец, пройдя к столу, тяжело повел затекшими плечами и, сняв узел, положил на стол.
— Что это, Ванюша? — спросила бабушка.
— Паек, мама. Взяли меня на работу в лесничество. Временно, правда...
— Да и вся-то наша жизнь временная,— чрезвычайно обрадованная, с готовностью подхватила бабушка.— Все мы на земле временные. И на том спасибо. Дед наш тоже какой паек принес — прямо чудо! И мука белая, и молоко вроде сметаны, густое и сладкое, и другое что... американы, слышь, помогают...
— Ну и у меня, наверно, такой же паек,— развязывая узел, ответил Иван Сергеевич.— Теперь ты, малыш, поправишься... Не горюй!
Что-то громко стукнуло у дверей, и все разом обернулись. На пороге стоял дед Сергей, на полу у двери лежал брошенный им топор.
— Иудин хлеб принес?! — почти с ненавистью, блестя белками глаз, спросил он Ивана Сергеевича.
— Почему Иудин? — не сразу и растерянно переспросил тот.— Вы же, тятя, такой же хлеб...
— Такой! Врешь, не такой! — перебил дед, швыряя в угол картуз.— Я за то получил, что лес тридцать лет храню! А ты за то, что изничтожать его хочешь! Продажник!
Иван Сергеевич стоял у стола, опустив голову.
— Не понимаете вы, тятя,— глухо сказал он, вскидывая на секунду внимательные, похолодевшие глаза.— Ничего не понимаете!
— Я понимаю то,— гневно закричал старик,— что
я этот лес всю свою жизнь, как дитя, блюл, я за него, может быть, тыщи людей изобидел, вся моя жизнь в этот лес втоптана! А ты приехал, тебя куском поманили, и ты — не то лес, отца с матерью готов продать! — Дед наклонился, поднял топор, зачем-то пощупал лезвие и снова швырнул топор на пол.— Непомнящий родства — вот кто ты есть!
Иван Сергеевич поднял голову, сделал шаг к отцу.
— Напрасно вы так, тятя,— мягко сказал он.— Я все помню. И мне этот лес дорог, наверно, не меньше, чем вам...
— Молчи! — закричал старик, и лицо его перекосилось.
Павлик со страхом смотрел на деда,— казалось, тот каждую секунду может броситься на Ивана Сергеевича и ударить, избить его. А то еще топор схватит... Светлые глаза старика горели холодным, злым пламенем, лицо покраснело, одна щека нервно дергалась.
Тяжелое молчание. Иван Сергеевич стоял, нерешительно теребя веревочки узелка с пайком, бабушка Настя, с пылающими то ли от болезни, то ли от волнения щеками, молча ждала, с осуждением и в то же время с жалостью глядя на деда, готовая вступиться за сына. Павлик, прижавшись к стене, не сводил глаз с разбушевавшегося старика.
Дед рывком снял с плеча свою старенькую берданку, повесил на деревянный штырь у входа, постоял несколько секунд молча, словно стараясь унять охватившее его волнение. Затем подошел почти вплотную к Ивану Сергеевичу и, не глядя на него, глухим, вздрагивающим голосом сказал:
— Откажись, Иван.
— От чего отказаться, тятя?
— Лесосеки нарезать откажись.— Дед поднял глаза и в упор посмотрел на сына.— Ты откажешься, другой откажется, мужики лес рубить откажутся... Чего они тогда сделают?
Бабушка зло рассмеялась.
— Мужики откажутся? Как же! Я вчера в Подлесном была — только и ждут, только и разговоров. Пилы да топоры точат — аж звон по селу стоит, ровно в престольный праздник! Так они и откажутся. Спят и видят пайки эти, Американские. Дед посмотрел на нее с злобным недоверием, щека у него снова задергалась.
— Врешь! Я сам к ним пойду... Я им такие слова выскажу... Да как же это возможно — на такой лес топор подымать? А? Это же... это...
Не договорив, он посмотрел на всех по очереди злыми растерянными глазами, но что-то остановило его. Глядя на свои запыленные лапти, перебирая пальцами правой руки реденькие прядки бороды, он спросил Ивана Сергеевича:
— Когда валить станут?
— Не знаю... Мне поручено сделать перечет во всех кварталах массива.
Дед подумал, пожевал губами и вдруг снова взорвался :
— Не будет этого! Не дам! Не дам такое добро губить!
Несколько секунд в кухне было тихо. Павлик слышал, как позевывает во дворе Пятнаш, кудахчут куры.
— Слушайте, тятя,— тише, но тверже сказал Иван
Сергеевич.— Я сейчас два раза прошел по селу. Половина изб забита — все перемерли. И в каждой избе ждут смерти... Неужели же человеческие жизни дешевле леса?
Старик молчал.
— Ведь Советская власть потому и продает американцам лес, чтобы спасти людей — кого еще можно спасти. Лес вырастет снова.
— Такой?! — закричал дед Сергей.— Да такой лес тыщи лет растить надо! Ты! Ты же лесную училищу кончал, ты должен знать! Сруби лес — и вот она тебе, пустыня. Как в Подлесное идти, видел землю? Овраги, словно змеюки, на какие версты вытянулись, грызут землю! Глянешь, дна не видать, как могила бескрайняя... Сруби этот лес, и тут то же будет! Ни красоты, ни радости, ни урожаю! Эх, ты!—И опять повторил полюбившееся слово: — Продажники все вы! Только бы брюхо набить.
И пошел к двери.
— Отец,— робко остановила его бабушка.— Ваня-то ведь правду говорит. Скоро все село на мазарки переселится. И Маша вон... А тут как-никак паек, хлеб...
Глядишь — и спасутся которые. А?
Дед Сергей ничего не ответил, только посмотрел на жену уничтожающим взглядом и пошел к двери. Сняв со штыря берданку, он было закинул ее себе за плечо, но вдруг задумался над чем-то и, помедлив, снова повесил берданку на место.
— Вот поглядите еще! — неясно кому погрозил он и, легко ступая, спустился с крыльца.
Весь следующий день Павлик провел с отцом в лесу.
Когда он впервые услышал слово «перечет», он, конечно, не понимал, что оно значит.
Лес представлялся ему таким необъятным, что он и думать не мог, что каждое дерево в этом лесу может быть измерено и учтено. А оказывается, такую работу в лесу делали, и не один раз за его долгую жизнь, делали для того, чтобы определить запасы древесины в каждом квартале, чтобы определить полноту и бонитет насаждений, чтобы установить необходимость санитарных и прореживающих рубок.
Ивану Сергеевичу в его работе помогал лесник, или, как здесь его называли, «полещик», сосед деда Сергея по кордону, отец Андрейки и Иры. Звали его Василием Поликарповичем. Хмурый, нелюдимый, неразговорчивый мужчина с такими же рыжими, как у его жены, волосами, давно не стриженными, желтыми косичками закрывавшими шею, с рыженькими мягкими усиками, с рыжеватыми же кошачьими глазами, все время смотревшими куда-то в сторону или в землю,— они как будто отыскивали что-то.
Василий Поликарпович раздвижной деревянной вилкой измерял толщину дуба на высоте груди, гово-рил, сколько вершков диаметр ствола, а Иван Сергеевич ставил в своей записной книжке точку. Потом точки соединялись линиями, и получались маленькие квадратики, пересеченные из угла в угол еще двумя линиями.
— Пап, а зачем это? — спросил Павлик, заглядывая из-под руки отца в ведомость.
— Так легче считать, малыш.
Перечет начали с самых удаленных от кордона кварталов объезда, поэтому обедали в лесу. Павлик и Иван Сергеевич съели по лепешке и огурцу, которые им дала с собой бабушка, и запили родниковой водой. Василий Поликарпович обедал отдельно, на другой стороне родничка. Поев, он лег на спину и стал смотреть в небо; скоро послышался храп.
Павлик спать не мог. Он лежал рядом с отцом, всматриваясь в чуть шевелящуюся листву, следя за тем, как плещутся солнечные лучи, пробиваясь сквозь зеленый живой потолок, следя за полетом бабочек, изредка залетавших в чащу с недалекой поляны.
— Пап! А я все-таки не понимаю,— сказал Павлик, поворачиваясь к отцу.
— Чего не понимаешь, малыш?
— Зачем рубить лес? Ведь жалко!
— Конечно, жалко.
— Тогда зачем же?
Отец помолчал, сворачивая папиросу.
— Но ты же сам видел, сколько людей голодает. И даже умирают от голода.
— Так вот и дать бы им эти пайки, пусть не умирают. А зачем же лес? Я понимаю дедушку Сергея...
— Эх, малыш, малыш! У дедушки Сергея столько же понимания, сколько и у тебя... Такой же он ребенок.— И, почиркав зажигалкой, глубоко затянувшись, отец сердито, почти зло сказал: — За пайки тоже платить надо. Вот и платим.
— Лесом?
— Да.
— Кому?
— Америке, сынок...
Потом долго лежали молча. Чуть слышно звенела вода в родничке, словно кто-то невидимый осторожно касался пальцами нежных струн. Низко над лицом Павлика покачивалась от его дыхания веточка орешника — зубчатые шершавые листочки. На нижнем суку дуба мелькнуло что-то огненно-рыжее; всмотревшись, Павлик разглядел белочку, она с любопытством поглядывала вниз, остро блестя бусинками глаз.
— Пап! А как ты думаешь, дедушка куда пошел?
— Не знаю, малыш. Видимо, в Подлесное. Только зря это...
— Не послушают?
— Наверно.— Иван Сергеевич тяжело вздохнул.— Давай, малыш, подремлем...
Но Павлику не хотелось дремать. Закинув за голову руки, он лежал и смотрел вверх. Мысли мешались, путались. То ему становилось жалко лес, то он вспоминал телегу без лошади — в нее впрягались несколько мужиков и с негромким, сиплым покрикиванием «а ну, дружно» пытались сдвинуть ее с места. А на телеге стоял гроб, и даже не гроб, а прямоугольный ящик, и в нем лежал кто-то, кого Павлик не знал, но кто тоже, наверно, умер от голода. И Павлику становилось жалко людей, всех этих несчастных, худых, изможденных, которых он встретил за последний месяц. Вспоминались ему загорелые оборванные мальчишки, которые с звериной яростью дрались на пристани за корку арбуза, муж бабушкиной сестры, который не падал только потому, что подпирался палочкой, татарин Шакир с его «Мариам ни нада помирает, ни нада»... Теперь у многих будут пайки, и у Шакира, может быть, тоже, и тогда его Мариамка не умрет с голоду. Может быть, это так и нужно — рубить лес?
Он и сам не заметил, как сонная дремота овладела им. Мысли пропадали, а на их место приходили картины жизни, мысли как бы оживали, приобретали плоть и кровь, становились видимыми, ощутимыми. И Шакир, о котором только что думалось, вдруг подошел к Павлику и, измученно улыбаясь, сказал голосом отца: «Вставай, малыш...»
На кордон они вернулись поздно, уже в сумерки. Огромный костер, казалось, догорал за лесом; там, где садилось солнце, багровый отблеск этого огня ложился на лица и руки людей, нестерпимо горел в стеклах окон, стволы берез на опушке были окровавлены им.
— Завтра пораньше пойдем, Василий Поликарпович,— сказал Иван Сергеевич, прощаясь с полещиком.
— А торопиться куда? — буркнул тот, уходя.— Радости не больно много...
Дед Сергей домой все еще не приходил. Собирая на стол ужинать, бабушка была молчаливая и хмурая —« беспокоилась, ждала.
И ночью, лежа на лавке рядом с кроватью Павлика, она поминутно вздыхала, ворочаясь с боку на бок, вставала пить.
— Ты опять больная, бабуся? — спросил Павлик.
— Нет, Пашенька... Так чуток тяжесть в грудях осталась... Все прошло.
— Ты из-за дедушки?
— Не сплю-то? — Бабушка помолчала.— Да, может быть, и из-за него тоже... Чего пошел? Да еще без берданки. Уж больно его на селе не любят... Поди-ка, там ни одного человека не осталось, кого бы не изобидел... Он ведь как говорит: «Ежели одному позволю, стало быть, и другому надо позволить». Он даже родных по начальству доставлял, ежели в лесу ловил. Вот он какой... Ты на него, Пашенька, зла не имей, ему тут трудней всех...
Вокруг кордона бегал Пятнаш, изредка доносился его негромкий и как бы вопросительный лай. Шуршали за печкой тараканы, блестело посеребренное лунным светом стекло окна.
Когда Павлик проснулся, отец уже ушел на работу. Павлик не очень об этом пожалел: вчерашний день показался ему длинным и скучным. Умывшись у колодца холодной водой, погладив уже привязанного на цепь Пятнаша, Павлик вернулся в дом, где бабушка собирала на стол еду.
— Слава богу,— негромко сказала она Павлику и показала глазами на деревянный штырь у двери.— Видишь? Берданки нету. Значит, как мы с тобой уснули, заходил, берданку взял. Стало быть, на пасеке теперь...— И, странно просветлев лицом, улыбнулась
Павлику: — А знаешь чего? Давай-ка сходим на пасеку, навестим его. Чай, не убьет он нас. А?
К этому времени Павлик уже знал, что такое пасека. «Пчелиная деревня» —как, посмеиваясь и хихикая, объяснила ему Ира. Вместе с детьми лесника он два раза проходил мимо, внутренне сжимаясь, боясь встречи с дедом и в то же время с любопытством вглядываясь в необычные предметы, как будто сошедшие со страниц сказки.
Его не удивило, что пасека была обнесена высоким жердевым забором, его поразили белые, серые и шафранно-желтые черепа, насаженные почти на все колья забора и страшно скалившие на проходящих уцелевшие зубы. Здесь были черепа лошадей, коров, коз и еще каких-то животных,— большие и маленькие, они, казалось, настороженно следили пустыми глазницами за каждым шагом проходивших мимо людей. «А зачем?» — шепотом спросил Павлик, когда увидел их первый раз. «А чтобы ты боялся!» — засмеялась Ира.
За оградой стояли самодельные, долбленые ульи, похожие на высокие пни, а в косогоре виднелась землянка — она называлась «омшаник», где и жил почти все лето дед Сергей и где зимовали пчелы. Перед дверью омшаника, под низеньким навесом, кто-то врыл в землю самодельный стол и рядом — скамью. На столе стояла деревянная бадейка и лежал какой-то странный предмет; потом Павлик узнал, что это дымарь...
Бабушка убралась по хозяйству, спустила Пятнаша с цепи.
— Пошли, милый,— сказала она, взяв Павлика за
руку.— Может, занедужилось ему. Да и про Машу
спросим: как она там, жива ли?
С бабушкой Павлик не боялся идти к деду — он с уважением и надеждой поглядывал на ее крупные руки, на все еще крутые ее плечи.
Хорошо натоптанная тропинка — наверно, дед Сергей ходил по ней каждый день много раз — петляла между густыми зарослями орешника, огибала толстенные дубы, корни которых выползали на тропинку, толстые, как тропические удавы. Кое-где на дорожке валялся прошлогодний, выкатившийся из травы желудь. Бабушка нагибалась, поднимала и прятала в карман.
Маленькая калиточка, сбитая из тоненьких жердочек, сухо скрипнула, пропуская Павлика на пасеку, в этот сказочный, заколдованный, как ему казалось, уголок земли, а черепа сверху смотрели на него недоброжелательно и страшно.
— Бабуся, а чьи это головы? — шепотом спросил Павлик.
— Черепа-то? А эта вон, видишь, поменьше, все зубья целые? Это бычка нашего, Буренкинова сыночка. Ногу сломал, пришлось прирезать. А эта вон, с клыками,— волка дед стрелил. А эта вон, узенькая, лиса к нам во двор повадилась, трех кур, поганка, зарезала...
— А зачем? — спросил Павлик о том, о чем уже спрашивал Кланю.
— А чтобы звери стороной обходили...
— Они боятся?
— Ну да... Вроде ихнего кладбища, звериного... На кладбище-то страшно?
— Страшно.
— Ну вот. Раньше-то у деда,— продолжала бабушка,— собака тут была... Сгубили лихие люди, то ли со стеклом, то ли с иголкой мяса подкинули... Хорошая собака была... Жданкой звали...
— А ее череп тоже тут?
— Нет. Отец в лесу схоронил, честь по чести...
Павлик с удивлением смотрел на высокие пни, в
каждом из них была дырочка. «Летка»,— сказала бабушка. В нее влетали и вылетали пчелы. Стояло долбленое корытце с чистой водой,— наверно, затем, чтобы пчелы пили. Дверь в омшаник была открыта, оттуда веяло погребной сыростью, влажной прохладой, кислым запахом овчины. Бабушка остановилась на пороге, нерешительно заглянула внутрь. Павлик спрятался за ее спину.
— Ты дома, отец? — спросила бабушка.— Со свету-то ничего не видать.
Послышался не то стон, не то кряхтенье, скрипнули сухие доски, и недовольный голос деда Сергея спросил:
— Чего нелегкая принесла?
— Так ведь вроде ты в Подлесное вчера ходил, отец.— Голос у бабушки стал добродушно-ласковый, мягкий: она, видимо, все-таки боялась, что дед ее выгонит.— Так вот я узнать хотела... как там Маша? Живая?
— Живая,— недовольно буркнул старик.
Павлик осторожно выглянул из-за спины бабушки.
Дед сидел на топчане с забинтованной грязной тряпкой головой, на правой руке тоже была повязка — с пятнами крови. Яркий квадрат солнечного света, падавшего в дверь, лежал на земляном полу; у топчана стояли ярко освещенные побитые дедовы лапти, на них тоже была засохшая кровь. На стене, над головой деда, висела берданка.
Только присмотревшись, бабушка разглядела забинтованную голову деда.
— Батюшки, да что это с тобой, отец? — Легко и быстро вошла она в землянку, оставив Павлика на пороге.— Неужто избили?
— Не видишь?
— Кто?
— Серов... Афанасий... да Трофим Косой... Помнишь, топор отнял?
Дай-ка погляжу... Грязной тряпицей завязал,
черт старый,— так ведь и дурная кровь прикинуться может... Да сиди ты! — прикрикнула бабушка, и Пав-лик опять услышал в ее голосе властные ноты.— Болит-то здорово?
— Болит, конечно... всю черепушку раздолбали, ироды...— В словах деда уже не слышалось недовольства и гнева, он только мычал от боли, когда бабушка отдирала от раны присохшие тряпки. А она деловито и умело, словно всю жизнь перевязывала раны, разматывала окровавленную тряпицу.
— Чем это тебя?
— Да палками били... видно, убить боялись, собаки!
— Павлик! — повернулась бабушка.— А ну-ка возьми бадейку, сбегай к родничку. Видел, как мимо шли?
— Видел.
— Ну беги! А я на кордон — трилистничка принесу. Вмиг затянет.
Павлик взял стоявшую на столе бадейку и побежал за водой. Страх перед черепами немножко прошел — очень уж интересно было: кто и за что избил деда, которого, по словам бабушки, все боялись как огня. Желая знать, что дед станет рассказывать, Павлик быстро сбежал по тропинке к роднику, зачерпнул половину бадейки воды,— бадейка и сама была тяжелая. Проливая на ноги воду, пошел обратно. Но шел медленно, ждал, пока его снова догонит бабушка.
Но когда он вернулся в омшаник, бабушка и дед сидели рядышком на топчане и дед продолжал рассказывать :
— Ну, иду я и думаю: как же это мне их не уговорить?.. Сама же помнишь, как поженились, лес до самого Подлесного был,— весь покрали, порубили... Теперь, я вчера поглядел, овраги-то все дальше ползут, гложут землю. И урожаи не те стали. Почему? А лес потому что весь изничтожили. А лес, он влагу дает, против суховея первая защита... Как этого не понять?..
— Принес? — перебила бабушка, оглядываясь на Павлика.— Давай сюда.— И вздохнула:—Волосы бы тебе, отец, выстричь надо... Знала бы — ножницы прихватила...
— Нельзя. В рану мелкий волос набьется... В четырнадцатом на фронте одному так же вот выстригли; потом, как заросло, опять резать пришлось...
— Ну-ну, дальше что?..
— Ну, думаю, как уговорить? Скажу. «Так и так, б_ратцы, откажитесь валить красоту такую... Люди же, не волки... Для вашей же пользы... для детей ваших...» А на всходе избушка мазаная, знаешь?
— Не знаю чья.
— И я не знал... Только подхожу — Шакир, этот басурман, на плетне собачью шкуру свежую вешает... Подхожу, значит... «День, говорю, добрый». Молчит. «Чего, спрашиваю, делаешь?» А он на меня как зыркнет глазами, чисто зверь... «А вот, видишь,— говорит.— Был у меня собака однорукий, как брат родной все равно. Он спал, я ему голова рубил. Как родного брата, говорит, убил». А я посмеялся. «Жалко?» — говорю. А он на меня снова зверем: «Знаешь, говорит, почему такой собака хороший убил?»—«Не знаю»,— говорю. «Пойдем, покажу». Пошел я с ним в мазанку. А там на полу, значит, лежит его старуха да трое детишек, вроде три шкелета махоньких. А он засмеялся так страшно, только зубы оскалил, и ко мне: «Сичас из безрукой собаки бишбармак кушать будем. Оставайся, гостем будешь». Ну я задом-задом и вон из избы: потому, вижу, не в себе человек. Пошел дальше — чего, думаю, с басурманом говорить. Пошел по селу, а ко мне навстречу — Трофим Косой. Со всех ног бежит и от радости глаза на лоб лезут. «Нанимать идешь?» — кричит. Ну, значит, на лее топоры нанимать. Остановился я. Тут другие подошли, и гляжу, уж которые с топора-ми да пилами. И Серов тут же, кровосос этот. Ну и стал я их урезонивать: дескать, где ваша совесть, человеки? Ну, они и загалдели... А чего же я один супротив десяти-то сделаю? И бердану, дурак, дома оставил — для острастки бы взять надо...— Дед помолчал, облизнул запекшиеся губы.— Часов, поди-ка, пять до дому шел... от дерева к дереву...
Павлик стоял и слушал.
— Попить дай, Настя,— глухо сказал старик. Напился, вытер шершавой ладонью губы.— Стало быть, будут рубить, мать. Не спасти...— И маленькая слеза прокатилась у него по щеке и спряталась в бороде.
На обратном пути Павлик все думал и думал о дедушке. На этот раз дед показался ему другим человеком — словно что-то надломилось, пошатнулось в этом властном и жестоком старике,— в нем появилось что-то от больного, обиженного ребенка. И в голосе его звучали совсем другие ноты — недоумевающие и горькие. Несмотря на жестокую обиду, которую ему нанесли, он, наверно, все же сомневался теперь в свой правоте. Перед глазами Павлика вставал образ Шакира, убивающего любимую собаку: «Он спал, я ему голова рубил»,— для того чтобы накормить детей. Это было страшно... Закрыв на мгновение глаза, Павлик видел Шакира со шкурой «однорукой собаки», видел детей, лежащих почти без чувств в мазанке на земляном полу...
— Бабуся, а почему дедушка сегодня так много говорил? — спросил Павлик, когда они подходили к дому.
— А разве я знаю? — откликнулась та, на миг обернувшись. Глаза у нее были влажные.— От обиды, наверно, Пашенька. Легко ли? За всю жизнь его пальцем здесь никто не тронул, боялись. А тут ну-ка, малость не убили, да еще палками. Вот он и говорит без останову, чтобы сердце заговорить... Он с войны вот такой же пришел... за какую-то провинность аль, может, и просто так унтер ему два зуба вышиб, еще в пятнадцатом... Тогда-то он и ожесточился сердцем... приехал сюда... «Пусть, говорит, теперь лучше меня боятся...» Вот так-то, милый... Павлик спросил:
— А в этих пеньках на пасеке мед?
— Да, милый.
— Он сладкий?
— Известно, сладкий. Не пробовал разве?
— Не помню.
Бабушка тяжело вздохнула.
—¦ А где же тебе помнить! С шестнадцатого, поди, на голодном пайке. О-хо-хо!
Павлик еще спросил, смущаясь и сам не понимая причины своего смущения:
— И сейчас мед?
— В ульях? Конечно. Пчелки-то работают, трудятся.— И, держась за перила крылечка, бабушка пытливо оглянулась на Павлика и спросила с любовью и жалостью : — Медку хочется?
Павлик не ответил, потупился, на бледных щеках вспыхнули красные пятна.
— Попрошу у него,— со вздохом пообещала бабушка. И, тяжело присев, почти упав на нижнюю ступеньку, негромко сказала: — Видишь, Пашенька... ежели бы не этот мед, мы бы тоже теперь с голоду помирали. Он-то, дед, и в прошлом годе домой ни одной чашки
меду не принес, все берег. А к зиме, как выкачал, повез в город да и продал. Привез оттуда цельный мешок муки, по нынешним голодным временам — богатство целое... Вот и жили всю зиму, ели... Потому и ныне скупится. Он ведь и сам в рот не берет. «А чего зимой жрать станем?» — говорит... Вот и суди — не от жадности это, от нужды великой...— И неожиданно всплеснула руками и, кряхтя, взявшись обеими руками за перила, встала.— Господи боже, прямо из ума вон! Он же, поди-ка, со вчерашнего утра не ел. И как это я сразу не хватилась, дура старая! — Тяжело переставляя отекшие ноги, немного боком, как всегда, она поднялась на крыльцо. И уже оттуда повернула к внуку доброе, обеспокоенное лицо.— Пашенька! Я сейчас похлебки в котелок налью, да лепешек положу, да огурцов нарву... Снесешь, миленький? Ноги у меня отказывают, находились за шестьдесят лет... Снесешь,Пашенька? Он теперь тебе ничего... сам ушиблен¬ный...
Павлик испуганно смотрел на бабушку, глаза были , полны вновь вспыхнувшего страха,
— Не бойся, глупенький... Я вон еще Андрейку да Кланю покличу, чтоб, значит, тебе одному не страшно.
А сама-то не дойду я... моченьки снова нет. Андрейка!
Ира!
На крылечко, едва видимое за плетнем, выбежала, прыгая на одной ноге, Ира. Белые волосы при каждом прыжке тоже смешно прыгали.
— Чего, бабушка Настя? — во весь голос весело закричала она.
— Сходите-ка вот с Пашенькой на пасеку... Сергею Павлычу обед отнесть.
— А Андрейки дома нету! — опять во весь голос прокричала Ира.
— Где же он?
— В покос с маманей ушли! На Березовы Рукава!
— А ты что же не пошла?
— А я ногу вчерась на гвоздь напорола! — весело ответила девочка и, кружась на месте, запрыгала на одной.ноге.
— Ну, ТУТ недалече! Сходи с Пашей. А то ему одному... боязно. Боязно? И-хи-хи! Ну ладно! Я туда и на одной ножке доскакаю!
Торопясь и охая, бабушка пошла к дому, собрала скудный обед, завязала его в вылинявшую синюю тря-почку и снова вышла на крыльцо. Там на ступеньках сидел смущенный Павлик. Передавая узелок с едой, бабушка сказала:
— А ты в омшаиик-то и не входи. Поставь на столик да шумни: дедушка, мол, обед принесли! И — сразу домой. Он, поди-ка, лёжмя лежит — здорово ему,
бедному, голову покорежили.
Павлик нехотя взял узелок и вышел за ворота, где, сидя на бревнышке, дожидалась смеющаяся, как всегда, Ира.
— Ты чего скучный такой? — блестя глазами, спросила она.
— Та-а-ак.
Дети пошли по знакомой тропинке. Впереди, то прихрамывая, то скача на одной ножке,— Ира, за ней — смущенный Павлик. Опять в его сердце проснулся страх перед дедом, в ушах зазвучал грозный окрик: «Не целовать надо, а пороть хорошенько, чтоб свету невзвидел!» И ноги шагали все медленнее, и холодком обливалось сердце... А если дед вовсе не лежит, а уже ходит по пасеке и неожиданно вывернется из-за куста и схватит за плечо,— тогда ведь не убежишь. А?
Ира упрыгала далеко вперед и, поджав больную ногу, остановилась, ожидая Павлика. Он подошел. Девочка, ехидно прищурившись, смотрела на него, глаза ее смеялись.
— А что,— спросила она, щурясь,— у вас в городу
все мальчишки такие трусихи?
Павлик поднял обиженные глаза,
— Я не трус!
Почесывая больной ногой здоровую, девочка в упор смотрела на Павлика,— в глазах у нее струился, переливался дразнящий смех.
— А я, что ли, не видю! — воскликнула она.—
Ужаки спугался? Спугался! Через канаву прыгнуть
спугался? Спугался. Купаться в озере спугался? Тоже спугался.
Павлик с робкой просьбой посмотрел на девочку. Ему хотелось сказать, что купаться сначала он не хотел только потому, что думал, надо раздеваться догола, а ему было стыдно купаться вместе с девочкой, даже с такой маленькой, как она. Но ничего не сказал и, покраснев, опустил глаза.
— И деда боишься! Аж позеленел весь! — И, ловко повернувшись на одной ноге, опять весело запрыгала по тропинке. Потом, уже у самой пасеки, остановилась, протянула худую, черную от загара руку.— Давай уж снесу,— покровительственно и презрительно предложила она и захихикала.— А то, не ровен час, портки запачкаешь!
— Какие портки? — спросил Павлик, уже протягивая узелок.
— А вот эти! — И Ира подергала его за коротенькие, с пуговками по бокам вельветовые штанишки.
Кровь бросилась Павлику в лицо, он поспешно рванул узелок к себе. Вся его мальчишеская гордость возмутилась — он вспомнил, как хотел стать матросом и
бесстрашно, не прося у врага пощады, погибнуть под волнами.
Потом почувствовал, как щеки медленно холодеют,— отливала от них кровь, и сердце забилось часто и громко; он слышал это, не прикладывая к груди рук.
Решительным, даже надменным жестом он отстранил эту дрянную девчонку от калитки, открыл сухо скрипнувшую дверцу и, выпрямившись, пошел к землянке.
А Ира, весело хихикая, поскакала сзади, приговаривая на ходу:
— А он тебя выпорет! И-хи-хи-хи! Выпорет! Выпорет! Выпорет!
Дверь в омшаник была открыта. Солнечный квадрат падавшего внутрь света сместился правее, на его дальней грани стояли разбитые дедовы лапти.
Остановившись на пороге с таким чувством, с каким останавливаются перед прыжком в ледяную воду, Павлик сказал ломким, чужим голосом:
— Дедушка, я вам обед принес
Дед ответил не сразу. В прохладной темноте землянки неподвижно блестели глаза, тусклой длинной полоской вырисовывалось дуло берданки.
— Поставь здесь! — после молчания, которое показалось Павлику очень долгим, сказал дед, и рука его, вытянувшись в освещенное солнцем пространство,
ткнула в чурбан, стоявший у койки и заменявший одновременно и стол и стул.
Если бы Павлик был один, он, наверно, не решился бы подойти к кровати деда, но сзади, в двух шагах, стояла, хихикая в кулак, беловолосая девчонка, которую он теперь ненавидел.
Он сделал два шага, отделявшие его от чурбака, положил узелок и, увлекаемый совершенно неведомым ему чувством, подчиняясь какой-то волне, которая вдруг подхватила его и куда-то понесла, сказал, глядя прямо в светлые, неподвижные глаза: .
— А я тебя не боюсь! Ты папу моего не любишь.
И маму не любил. И не хотел, чтоб она была моя мама.
Ты злой. А я тебя все равно не боюсь.
Несколько минут в землянке было тихо. Павлик ждал, что вот-вот раздастся звероподобный рык и дед
бросится на него. Хотелось повернуться и бежать, но он стоял не двигаясь и не дыша.
Потом в полосу солнечного света вытянулась морщинистая загрубелая рука деда, вытянулась и устало махнула:
— Иди! Не до тебя мне.
Павлик повернулся, вышел и прошел мимо Иры, не взглянув на нее, словно она была не живой девчонкой, а деревом, или столбом, или камнем. Быстро пошел по тропинке к калитке. Сначала слышал, как Ира сзади торопливо прыгала на одной ножке и что-то виновато щебетала. Но он пошел быстрее, почти побежал, и отвратительная эта девчонка отстала.
Придя на кордон, Павлик залез на сеновал и, уткнувшись в сено лицом, заплакал радостными и горькими слезами.




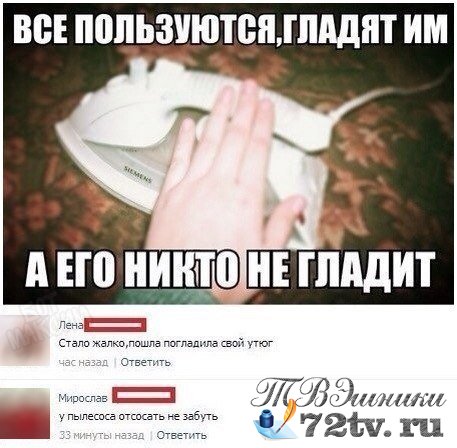


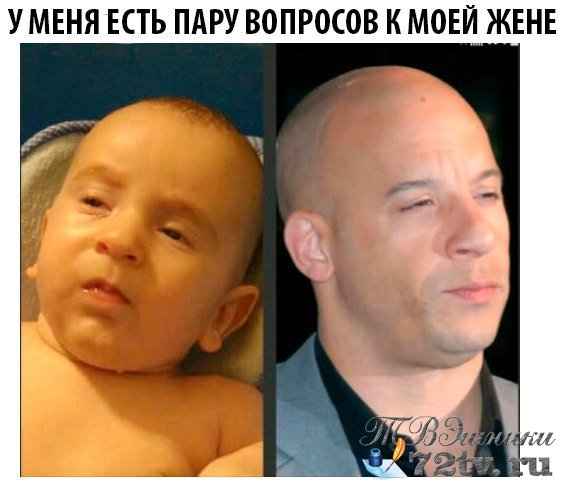
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.