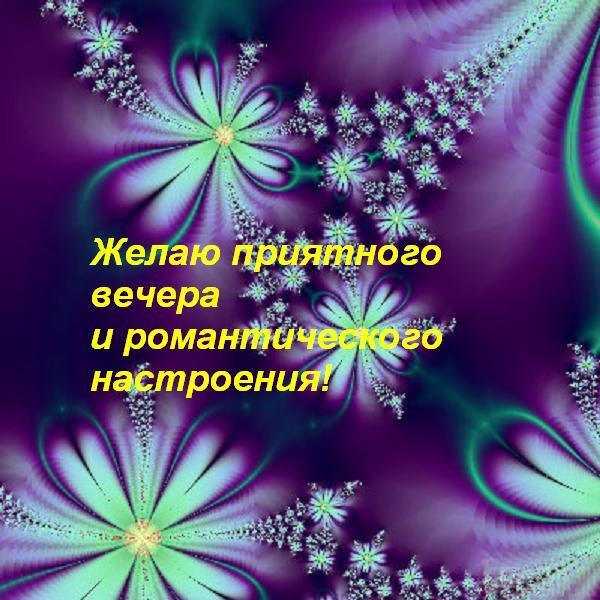Было отличное время и армия одерживала новые и новые победы в гражданской войне. Пример рабочих и крестьян Советской России вдохновлял угнетенные народы Востока.
Ленинский Декрет о мире отменил все тайные договоры царского правительства, в том числе и договор с державами Антанты о захвате турецкой столицы. Были уничтожены планы Царя, направленные против Турции. Пример великого северного соседа, совершившего у себя в стране социалистическую революцию, окрылял турецкий народ. Сопротивление иностранным оккупантам крепло, и в конце концов английские, французские и греческие войска были изгнаны из Турции.
Однако национально-освободительная борьба была нелегкой. В двадцать первом году фронт подошел почти к самой Анкаре — к кемалистской столице, к новой, второй столице Турции, и греческий король Константин уже издал приказ, заканчивавшийся словами: «На Анкару!»
Но этот же двадцать первый год принес победу оборонявшемуся свободолюбивому народу. Три недели длилась знаменитая битва на правом берегу реки Сакарьи. И закончилась она полным разгромом войск оккупантов.
-В те суровые дни особенно ощущалось сближение двух народов — советского и турецкого. Были заключены договоры о дружбе.
Национально-освободительная война тех лет сыграла великую роль в истории турецкого государства.
...Назым был исключен из военно-морского училища «за участие в бунте». Это случилось в самый разгар ана¬толийского движения.
С тех пор Назыма не оставляла мысль об Анкаре.
Но как попасть туда? Как преодолеть кордоны? Как перехитрить оккупантов, превративших Стамбул в тюрьму? Назым тщетно разыскивал людей, которые могли бы помочь ему. Безуспешные поиски приводили его в уныние.
Однажды в глубокой задумчивости шел он к тетушке Гюзидэ, к той самой, о чьей кошке написал когда-то стихи, так понравившиеся учителю Яхье Кемалю. Путь лежал через кладбище Караджаахмед — Кипарисовое кладбище. Близился вечер. Высокие каменные надгробья, словно кости мамонта, белели среди черных кипарисов. Издавна в Турции хоронят покойников под кипарисами.
Еще в училище Назым написал стихи о кладбище Караджаахмед.
В этих стихах сказалось влияние учителя. У Яхьи Кемаля было много мрачных стихов, и он хотел сделать молодого поэта, в одаренности которого не сомневался, своим последователем и преемником. Он помог Назыму напечатать грустное лирическое стихотворение в «Ени меджмуа». Яхья Кемаль был уверен, что юноша пойдет по его пути.В ту пору природа казалась Назыму унылой. Он чувствовал себя одиноким. В альманахе поэта Джеляля Са-хира он напечатал стихи о дожде:
Ночи ближе сердцу моему, чем дни.
Слезы по ночам — в густой тени,
Сердцу моему нужна прохлада:
Мне вздохнуть, мне встрепенуться надо.
Дождь идет...
Я в смутном ожиданье...
Дождь?
Или плывет с небес страданье?..
Теперь его мысли обратились к родине, которую топтали чужие солдаты. Можно ли спасти ее? Как сделать это? Чем может он, Назым, помочь своей стране?
И вот Назым снова бредет по кладбищу Караджаахмед* Он ускоряет шаги. Сейчас покажется знакомый домик, Вот он уже недалеко. Как бы ни было Назыму тяжело, тетя Гюзидэ всегда умеет его утешить.
Назым постучал трижды, как всегда. За дверью весело заговорили проворные каблучки. Тетя Гюзидэ распахнула дверь. Едва увидел ее Назым — и на душе посветлело. Гюзидэ была моложавая, стройная, несмотря на свои сорок три года. Лукавые голубовато-серые глаза, тонкие красивые губы. Весь вид ее как бы говорил: «Ну что, опять ноо повесила молодежь? Берите пример с нас, стариков, мыто унывать не любим!»
Назым никогда не здоровался с Гюзидэ: она отучила от этого и племянника и всех своих друзей. Она говорила: некоторые слова лишние. И прежде всего в разряд «лишних» слов попали «здравствуйте», «до свиданья», «пожалуйста», «спасибо». Вместо обычного приветствия племянник и тетя обменялись веселыми улыбками. Назым молча вошел в комнату. Все здесь нравилось ему. Комната была убрана просто, со вкусом. Веселый огонь, разведенный в камине, окрасил в розовый цвет занавески с причудливыми орнаментами в староосманском стиле и арабскими письменами, круглые подушки и валики ярких расцветок, низкие тахты — чуть ли не вровень с полом, игрушечный мангал ', картину, изображавшую кораблекрушение, и, наконец, маленького Зию, сына Гюзидэ.
Тетя села рядом с Зией, у камина. Она опустила ложку в манную кашу, протянула сыну. Зия послушно ел, не сводя при этом глаз с Назыма.
— Ты голоден? — спросила Гюзидэ.
Нет, Назым не хотел есть и, по заведенному в тетином доме правилу, ничего не ответил на ее вопрос.
— Что же будет дальше? — произнес он мрачно.
Заговорили об анатолийцах, о Мустафе Кемале. Гюзидэ с восторгом говорила о близком будущем, когда ни од¬ного иностранца не останется в Стамбуле.
— Я думаю, мое место там, в Анкаре,— сказал Назым.
— А не боишься? — усмехнулась Гюзидэ.
— Как туда попасть? — Назым снова не ответил на вопрос.
— Добрые люди помогут,— твердо сказала Гюзидэ.
— Я помогу! — раздался вдруг голос из темного угла комнаты.
Гюзидэ и Назым вздрогнули от неожиданности. Перед ними стоял Ниязи.
— Ты откуда взялся, паскал? — засмеялась удивленная Гюзидэ.
— Откуда бы ни взялся, а здесь оказался,— спокойно ответил Ниязи, указав кивком головы на окно.
Назыма рассмешила очередная проделка товарища, оп обрадовался его появлению. В трудную минуту так важно взглянуть в глаза друга, услышать его шутку, улыбнуться в ответ на его улыбку!
Назым и Ниязи отошли в сторону и стали разговаривать вполголоса, чтобы не отвлекать Зию от еды. Ниязи сообщил, что в газете «Алемдар» ' работает его приятель. Газета выходит с разрешения оккупационных властей. Ее редактор Улунай решил выпускать литературную странич¬ку, чтобы привлечь читателей.
— Отнеси ему свои кладбищенские стихи,— предложил Ниязи.— Я уже договорился: напечатают обязательно. Ну?
Назым задумался.
Нет, не эти стихи нужно печатать теперь, когда родина в опасности... Но других-то нет... А вместе с тем — как здорово было бы выступить со стихами, которые звали бы к оружию, воодушевляли бы патриотов! Может быть, многие еще поехали бы тогда в Анатолию: нашли бы пути!
Между тем Гюзидэ, накормив сына, подсела к юношам.
— Знаете, какая история произошла сегодня со мной и с твоей мамой? Ты, Назым, небось весь день слоняешься по городу и не видел ее? Нет? Ну, тогда я расскажу вам.
Идем мы с пей по городу. Вдруг глядим — стоят два французских солдата. Огромного роста, пьяные. Мы — в сторону от них, а они нам преграждают дорогу, толкают нас и мерзко улыбаются. Ох, Назымджык, видел бы ты в эту минуту свою кроткую маму! Не женщина, а тигрица! Я, признаться, струсила: еще бы — два таких верзилы, да еще с оружием! Говорят, они частенько пристают к женщинам... Так вот, я стою, остолбенев от страха, а мама — ох, и мамаша же у тебя! — как замахнется на них зонтиком: «О дябль! Парбле! Убирайтесь к черту! Черт возьми! Фише муа ля пэ! Лесэ муа траякиль! Оставьте меня! » И пошла их честить почем зря. Она ведь французский знает лучше турецкого. Солдаты испугались. Вы подумайте — два таких негодяя испугались двух маленьких турчанок! Может быть, они решили, что твоя мама вовсе не турчанка, а жена французского консула? Кто знает... Только отступили вояки! Но ей и этого показалось мало. Она сама перешла в наступление. Раз — одного зонтиком по плечу, два — другого по спине. Вот тут я, честно сказать, ждала самого худшего. Они могли нас застрелить: мы ведь «оказали сопротивление»!
Ниязи с одобрением посмотрел на тетушку Гюзидэ. Назым молчал. Он думал о своей смелой матери и о себе самом: «А я, молодой и сильный, что я в этой борьбе?»
— Знаете, что потом было! — продолжала Гюзидэ.—
За нами шла целая толпа, женщины и мужчины, и говорили: «Молодцы! Не побоялись этих хайванов! Так им и надо!»
Назым снова помрачнел и оживился лишь тогда, когда тетушка Гюзидэ стала рассказывать засыпавшему Зие сказку о сорока разбойниках:
— Кто-то был, кого-то не было. Бедный крестьянин был. Бахтияром звали. Был у Бахтияра сын — такой, как ты, точь-в-точь. И тоже его Зией звали. Захотел Зия каши. А дров, чтобы ее сварить, не нашлось. Взял тогда Бахтияр топор да и пошел по дрова. Такой был лес красивый, что не заметил Бахтияр, как зашел в самую чащу. Вдруг, откуда ни возьмись, сорок разбойников...
— Что же это вы, Гюзидэ-ханым, такую страшную сказку на ночь рассказываете? — вмешался Ниязи.
— Вовсе и не страшную,— спокойно сказал Зия.— Ведь Бахтияр всех разбойников прогнал! Вот!
Гюзидэ и Ниязи рассмеялись, глядя на мальчишку.
В тот же момент странный гулкий звук заставил их оглянуться. Назыма в комнате не было. Он выпрыгнул в окно. — Я здесь! — раздался голос из сада.— Не воображай, будто ты один умеешь!
Гюзидэ покачала головой: «Ну и сорванцы!» Назыму нужно было уединиться: у него родилась новая мысль. Он напишет для газеты (лучше всего для той, которую редактирует Улунай) стихи о сорока разбойниках, напавших на его родину! «Сорок разбойников» — всем знакомая сказка. Улунай, пожалуй, и не догадается, что в ней заключен прямой призыв к борьбе.
Вспомнился Назыму каикчи, который пел ему и Ниязи протяжную песню о родине. Тогда был такой же вечер, как сейчас. Родина, родина... В эту минуту Назым почувствовал особую нежность к старому лодочнику, сердцем понял, что у него, Назыма, и у старика — одна отчизна: несчастная, порабощенная Турция.
И вот Назым снова на Кипарисовом кладбище, и уже придуманы первые строки:
Пустыня. Ночь. Горит суровый пламень, Огнем костра освещены бандиты. Главарь их шайки сел на камень, На камень, плесенью покрытый...
Жаль, что темно и трудно записать. Эй, месяц, недаром ты сияешь на турецком гербе! А ну-ка, помогай!..
Зеленоватый лунный свет щедро струился с вышины. Назым сел на неогороженную могилу. По привычке закрыл лицо ладонями. Так просидел он несколько минут, бормоча про себя строки, подбирая рифмы. Радостно вскрикнул, когда решил, что нашел наконец нужный образ. Но тут мимо могилы, надрывно кашляя, прошел какой-то бродячий дервиш. Внимание Назыма было отвлечено, новые строки забылись. А, незадача!.. Звучало так хорошо! Назым стал тереть виски, вспоминая. Вот они! Скорей записать! Вот, вот:
Блеснул во тьме отточенный топор,
Раздался стон...
Кровь брызнула,
Упала на костер.
И гордо пленник без руки стоял,
Скрывая муку.
Разбойники кричали палачу:
«Руби, руби вторую руку!»
Палач пригнулся, побледнев, , ,
И сжал топор в тяжелом кулаке.
Но в воздухе грозой
Вскипел народный гнев —
И засиял топор у пленника в руке...
Так, хорошо... Можно будет дать в газету Улуная. Может быть, и напечатает...
Надежда Назыма оправдалась. Вскоре стихотворение «Пленник сорока разбойников» было напечатано. Оно было набрано мелким шрифтом, и редактор пропустил эти, казалось бы, невинные строки не читая, чтобы заполнить пустое мосто на газетной странице. Не прошло и двух недель, как, к удивлению редактора, о стихах молодого поэта заговорил весь Стамбул.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.