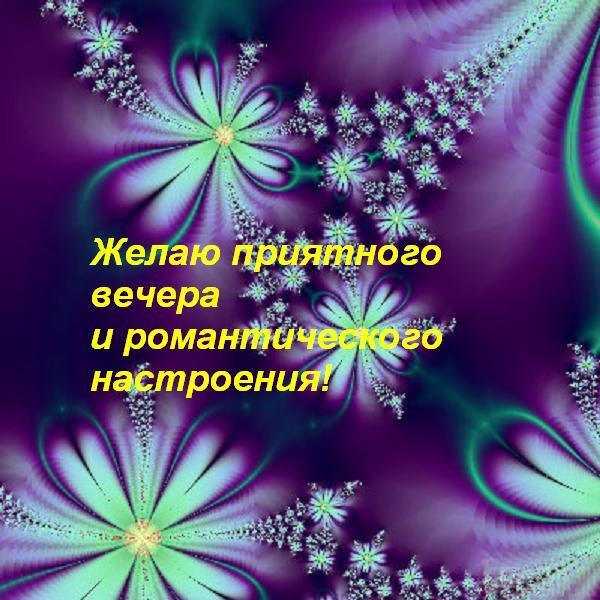Чем ортодоксальнее вероучение, тем больше расходится оно постепенно с реальной жизнью и тем труднее ему заставить своих последователей продолжать верить в застывшие догмы. Возникает острая потребность в модернизации, приспособлении к изменившимся условиям жизни верующих если не самих догматов, то хотя бы их толкований. Но модернизация вероучения — палка о двух концах! Религиозная вера по самой своей природе стремится формировать и закреплять в своих приверженцах консерватизм и инерцию мышления. И, приступая к каким-либо нововведениям, церковь каждый раз оказывается под огнем критики сразу с трех сторон — со стороны ярых модернистов, недовольных половинчатостью предпринятых ею шагов, со стороны консерваторов, восстающих против любых изменений «божественных» установлений, и конечно же со стороны ученых-марксистов, справедливо трактующих эти нововведения как убедительное свидетельство не божественного, а земного, естественного происхождения религии. Поэтому любая попытка изменения догматики или ее трактовок ставит церковь в сложное положение. Но и на прежних, замшелых позициях церковь тоже уже оставаться не может. Несмотря на отдельные периоды оживления религиозности, даже в капиталистических странах все больше пустеют и закрываются костелы, православные церкви, кирхи...
Ну какому современному человеку, даже в капиталистических странах, не говоря уже о социалистических, будет импонировать, например, такой факт, что Христос принадлежал к роду израильских царей? Идея монархии давно уже изжила себя.
И сегодня царская родословная Христа вызывает у многих верующих больше смущения, чем почтения. Вот почему католическая церковь теперь предпочитает говорить о нем не как о потомке царского рода, а как о рабочем человеке, плотнике и сыне плотника.
Верующим глубоко несимпатична идея ада и адских мук в ее классическом варианте, по которым осужденные грешники поджариваются на раскаленных сковородках и т. д.? Верующим кажется, что сама идея ада противоречит сущности всеблагого бога? И вот уже из церквей и костелов не только исчезают прежние изображения ада и адских мук, более того, с амвона звучат проповеди о том, что идею ада нельзя понимать буквально, что адские мучения — это нравственные мучения души от сознания своих земных грехов и невозможности соединения с богом!
Эти примеры взяты лишь из последних двух-трех десятилетий. А если взять более обширный исторический отрезок? Тут изменения позиций церкви еще нагляднее! И это в равной степени относится ко всем религиозным течениям.
Разве не весомый аргумент для тех, кто продолжает находиться в лоне религии? И те, кто не бездумно идут по раз и навсегда избранному пути, а стараются постичь разумом смысл религиозной веры, неизбежно приходят к осознанию ее глубокой противоречивости. А это бывает первым шагом к прозрению...
На Востоке говорят, что человек рождается дважды —-когда появляется на свет и когда ему открывается истина.
Но кто может предсказать судьбу только что родившегося ребенка? Кто знает, сколько еще трудных рождений предстоит ему в жизни, сколько раз еще заплачет он от бессилия, от отчаяния, от обиды или от горя? И кто может сказать, сколько слез прольют из-за него в будущем ближние его?
Говорят, что ни один лист не упадет без воли Аллаха. Но почему одним Аллах предназначил быть гениями, а другим — зеваками. Одним — героями, а другим — ничтожествами, одним — мудрецами, а другим — подлецами, одним — убийцами, а другим — убитыми? Почему ребенку, который всего несколько минут назад появился на свет, Аллах уже предназначил убивать или быть убитым, совершать подлости или быть жертвой подлецов? Кто сможет ответить мне, не сославшись на то, что пути Аллаха недоступны пониманию смертных? Но как быть тогда правоверному мусульманину, как понять ему, что есть воля Аллаха и какое предназначение уготовано ему в этой жизни? Можно читать Коран, можно следовать его указаниям и толкованиям его, но кто может точно сказать, что есть истина? Кто выстрадал ее в своей душе, выносил и родил в муках, как мать вынашивает и рожает своего ребенка?
Есть добро и есть зло, есть мудрость и есть глупость. И злобствующий не сотворит добра, а глупый не родит истины.
Есть знание и есть вера, есть истина и есть мираж. И сеющий знания пожнет истину, а сеющий религиозную веру взращивает миражи. Но что важнее изнемогающему от жажды путнику в раскаленной солнцем пустыне — истина о том, где находится колодец с живительной водой или чарующий мираж с тенистыми садами и наполненными хрустальной влагой арыками в нескольких сотнях шагов?
Даже обладающему истиной трудно отвернуться от миража. Так кто осудит путника, не знающего дорогу к колодцу, за то, что он тратит остатки сил на погоню за видением? Ведь до последнего мгновения он будет уверен, что стоит сделать еще одно усилие — и он очутится в благословенном оазисе!
Говорят, что только глупец хвалит виноград, не надкусив ни одной ягоды.
Говорят, чтобы узнать вкус арбуза, не обязательно есть его целиком.
Я окончил с отличием два медресе, научился свободно читать"и писать на арабском и на персидском, знаю каждую букву Корана, изучал хадисы, Тафсир Джала-лайн, фикх и каллиграфию. Я был катибом2 казиата Киргизии — вместе с казы3 Алимхантурой Шакирход-жаевым я ездил из двора в двор, из мечети в мечеть. Я читал верующим Коран, рассказывал о толковании разных сур, наставлял и простых верующих и мулл. И везде верующие и муллы встречали нас с почетом, обильно и вкусно угощали, ловили каждое наше слово и считали особой честью и даже милостью Аллаха, если Коран у них будет читать казы или катиб, то есть я...
Я вкусил винограда и набил оскомину. Я разрезал арбуз и увидел, что семечки в нем белые. Я стремился к истине, а обнаружил, что гонюсь за миражом. Кто осудит меня, что я стал искать дорогу к колодцу?
Мой отец был потомственным дехканином. До сих пор помню его тяжелые, натруженные руки. Они мастерски владели кетменем, но плохо справлялись с карандашом. Всю жизнь, до глубокой старости отец растил хлопок. Лишь во время войны, когда его мобилизовали на трудовой фронт, он сменил профессию земледельца — строил железную дорогу, работал в шахте.
От отца я усвоил, что самое главное и самое почетное дело человека в его земной жизни — добросовестный труд. От матери я воспринял, что есть еще более важная обязанность человека — почитание Аллаха, следование предписаниям веры. Мать еще в царское время окончи-
Тафсир Джалалайн (Комментарии двух Джалалов) — комментарии к Корану, начатые Джалалиддином Махалли и завершенные его учеником Джалалиддином Суйути.
Секретарь представительства Духовного управления мусульман.
Представитель Духовного управления мусульман на местах.
Ла мектаб, читала и писала на арабском, строго соблюдала все требования ислама. Это она с младенческих лет внушила мне, что все в мире происходит по воле бога, согласно его предначертаниям, что слаб и ничтожен человек перед ним и потому должен неукоснительно следовать предписаниям веры. Отец тоже был верующим, никогда не пропускал намаз, постился в месяц рамадан.
Отец обычно рано утром уходил и поздно вечером возвращался. Работы в колхозе хватало, а отец к празд-ному времяпрепровождению относился с осуждением. Я оставался с мамой, братьями и сестрами. Из четырна¬дцати детей выжил только я. Остальные умирали, не достигнув и пяти лет. Помню, как тяжело переживала мать, как плакала, заламывая руки... Помню, как чернел лицом отец, как бессильно сцеплял тяжелые, узловатые руки...
И отец и мать были уверены, что прогневили Аллаха, в чем-то провинились перед ним. И смерть, безжалостно уносившую детей, воспринимали как божью волю. И потому то, что я выжил, посчитали за величайшую милость Аллаха, за то, что чем-то отметил он меня перед остальными детьми.
Помню с младенчества, как мать читает на арабском Коран и молитвы. Незнакомый язык постепенно очаровал меня своей таинственностью и звучностью и скоро стал для меня приятнее музыки. И теперь я уже сам просил/мать читать Коран или молитвы, чтобы насладиться арабской речью. Маленькие дети очень восприимчивы к иностранным языкам, и в семь лет я уже знал арабскую грамматику и читал книги на арабском. Вместе с арабским языком усвоил я и многие суры Корана, почти все молитвы, что читала мне мать.
Чем старше я становился, тем больше опасалась за мою жизнь мать и тем настойчивее следила, чтобы я помнил и неукоснительно соблюдал все предписания ислама. Впрочем, это и не требовало от нее особых усилий. Представления о боге, о добре и зле, аде и рае, грехе и божественном предопределении я усвоил столь легко и быстро, что впоследствии мне казалось, что я с ними и родился. О том, насколько естественна и безыскусна была моя вера, свидетельствует одно из воспоминаний детства.
Мать с малых лет внушала мне, что человек, совершивший грех и не замоливший его, обязательно попадет в ад, где его будут терзать чудовища. В моем сознании хранился огромный перечень грехов, и среди них грех пропущенной молитвы.
Во дворе нашего дома, примерно метрах в десяти от него, росло большое тутовое дерево. И вот однажды, мне в ту пору было лет двенадцать, я увидел страшный сон. Будто с тутовника тянется ко мне чудовищный змей с семью головами. Хвост его обвит вокруг ствола, а головы с шипением раскачиваются около меня и вот-вот проглотят. До сих пор помню, как онемел я от ужаса и с каким трудом выдавил из себя сначала стон, а затем дикий крик, от которого и сам проснулся и всех в доме разбудил. Мать стала успокаивать меня, спрашивать, что случилось, а я дрожу, заикаюсь и ничего не могу сказать от испуга. Наконец, успокоившись, я рассказал матери о страшном сне.
— Ты, наверное, какой-нибудь грех совершил,— сказала мать,— вот Аллах и напомнил тебе о наказании.
Ну-ка, припомни, что ты вчера сделал неугодное Аллаху?
И я вспомнил, что именно вчера пропустил молитву. Но как же Аллах узнал об этом?
В ту пору Аллаха я представлял себе стариком с белой бородой, в белой чалме и в богатом белом халате. Жил он на небе так высоко, что его нельзя было увидеть, даже если залезть на крышу или на дерево. Помню, меня удивляла способность бога видеть все даже сквозь крышу и стены дома. Как-то я поделился своими сомнениями с матерью, но получил суровую отповедь. Сомневаться в могуществе бога — один из самых серьезных грехов, сказала она, а бог все и всегда видит.
— Даже если залезть в сундук?
— Конечно, глупый. На каждом плече у него сидят ангелы и все записывают—на правом плече сидит ангел, который записывает добрые дела, на левом — грехи.
Но мне все-таки не верилось, что от бога никуда не спрячешься. К тому же, размышлял я, на свете вон сколько людей. Поди-ка уследи за всеми разом. И поэтому я считал, что если нечаянно и совершишь какой-нибудь грех, то ничего страшного в этом нет — помолишься— и бог простит тебя. Но, очевидно, между тем, что я думал своим мальчишеским умом, и между тем, что под влиянием матери отложилось в моем подсознании, была большая разница. И в тот вечер, когда я нечаянно пропустил молитву и не придал этому особого значения, едва умолк убаюканный сном рассудок, как включилось подсознание, которое судило меня совсем другим судом. Рассудок спал, а чувства, освободившись от его контроля, создали в моем воображении рисунок сна, прочно внушенный мне когда-то матерью.
Страшный ночной сон, слова матери, объяснившие его, совершили в моих детских представлениях серьезный переворот. До тех пор я если и побаивался бога, то не больше, чем отца с матерью. Стараясь не грешить, я руководствовался тем же чувством, когда старался не баловаться,— я не столько боялся, сколько не хотел огорчать. Конечно, все это я понимаю теперь, тогда же я действовал безотчетно, импульсивно. А после страшного сна я стал бога бояться. Материнские рассказы о мучениях грешников в аду вдруг словно облеклись плотью в пылком детском воображении.
И еще одно воспоминание детства помогает мне кое-что понять в моей прошлой жизни.
Как-то мать, продав на базаре фрукты, дала мне несколько монеток и сказала, что я могу их истратить, как хочу. Нужно ли рассказывать, сколько искушений для мальчишки таит в себе восточный базар? Но у меня была заветная мечта, осуществить которую можно было лишь за воротами базара. Зажав в кулак драгоценные копейки, я вскочил на ишака и, подгоняя его ударами пяток, помчался за ворота, к ларьку, в котором продавали газированную воду. Напиток этот в то время у нас, в Кызыл-дворе, и в городе Оше продавали чуть ли не на каждом углу. Много раз с замиранием сердца смотрел я, как с шипением ударяла тугая струя воды в липкий сироп и в стакане волной вздымалась восхитительная ароматная пена. Стоила газированная вода копейки, но как раз этих-то копеек у меня до той поры никогда не было.
Лихо подскакав к ларьку, я гордо протянул продавцу деньги. Снова с шипением ударила струя воды — теперь уже для меня,— взметнулась ароматная пена. Я жадно схватил стакан и... от сильного удара слетел с ишака на землю. Едва я успел вскочить на ноги, как вокруг уже собралась шумная базарная толпа. В центре ее оказались трое—я, мой ишак и... моя мать!
— Шайтан, сын греха! — накинулась она на меня.— Для того я дала тебе деньги, чтобы ты тратил их на водку? Может, мозги твои покрылись слоем сажи, что ты забыл все, чему тебя учили?..
Ошеломленный и падением и внезапным яростным появлением матери, я еще ничего не успел понять, как возмущенные крики обступившей нас толпы сменились дружным хохотом.
— Да он же воду пил, а не водку! — донеслось до меня сквозь хохот толпы.
— Он пил из стакана! — яростно крикнула в ответ мать.— А из стаканов неверные пьют свою проклятую водку...
— Если ты не веришь ни сыну, ни людям,— подошел к матери худой белобородый старик,— то возьми осколки стакана и понюхай. Может, своему носу ты поверишь больше, чем добрым людям...
Нюхать осколки мать не стала.
— Правоверные пьют чай и воду из пиалы,— ответила она старику,— а пить из стакана — осквернять себя...— И запричитала: — Позор на мою голову...
Этот вроде бы незначительный случай надолго запал мне в память. И, даже став взрослым, я помимо собственной воли испытывал неприязнь к стаканам и жило во мне предубеждение к тем, кто из них пьет. Это были для меня люди чужой веры, а значит, ненадежные и опасные. Так внушила мне мать...
Вот так я и рос, боясь нарушить предписания веры, в убежденности, что живу под полным контролем Аллаха. Большое место в моем сознании занимали ощущения страха и вины. С той памятной ночи, когда мне привиделся страшный сон, меня постоянно преследовало опасение, что я, возможно, опять в чем-то согрешил перед Аллахом, даже не заметив этого.
Помню, с каким почтением и родители, и родственники, и соседи всегда говорили о нашем мулле. Мать часто вздыхала во время этих бесед и говорила, что если бы я когда-нибудь выучился так читать Коран и стал бы таким же благочестивым, то она могла бы умереть спокойно.
Сейчас мне удивительно об этом думать, но школа, которую я посещал аккуратно, сначала в Кызыл-дворе, потом в Оше, не повлияла на мою веру. То, что говорили учителя, не смогло посеять сомнений в том, чему учила меня мать.
В то время общественное мнение в дворе во многом зависело от позиции старейшин — аксакалов. И если они с чем-то не соглашались, то какой бы властью их, так сказать, оппонент ни обладал, он словно упирался в глухую стену. Да и сегодня ведь в Средней Азии многое в жизни двора решают аксакалы. Но старейшины того времени были иными. Они сочетали в себе любовь и преданность Советской власти с приверженностью к самым дремучим суевериям и бдительно стояли на страже шариата. И потому жизнь людей во многом определялась негласным, нигде и никем не писанным мнением родственников, соседей и аксакалов. Неудивительно, что даже тем из наших учителей, которым, может быть, и хотелось чувствовать себя независимыми от всех предписаний Корана и шариата, приходилось считаться с тем, что было принято в дворе и что было не принято, за что могли осудить. Поэтому на таком фоне и до моей религиозности никому не было дела. А между тем самой любимой мною книгой был Коран, а самыми увлекательными историями казались биографии Мухаммеда и его сподвижников.
В то время, пожалуй, сомнение только однажды закралось ко мне в душу. Было это в начале войны, когда в доме у нас появился чужой человек. Мать объяснила, что это ишан, и строго-настрого запретила говорить о нем кому-либо.
— Почему? — удивился я.
— Его хотят призвать на фронт, но разве война — его дело? Он святой человек. Его дело — возносить за нас молитвы перед Аллахом и наставлять правоверных на путь истины. А во-вторых, он наш гость. Если с гостем что-нибудь случится, имя хозяина навсегда будет покрыто позором.
Ишан жил у нас долго и, к моему удивлению, совсем не чувствовал себя обремененным ни положением гостя, ни положением дезертира. А меня раздирали тайные противоречия, которые я никому не мог высказать и оттого мучился еще больше. С одной стороны, я полностью доверял авторитету матери и в делах веры, и в житейских вопросах. Но, приученный с детства к понятиям долга и чести, никак не мог примириться с тем, что ишан — еще довольно молодой, крепкий мужчина, укрывающийся от исполнения своего долга,— святой человек, что он укрывается в нашем доме и мне приходится скрытничать и кривить душой, лишь бы ненароком не выдать его, что, бездельничая целыми днями, он пита-ется плодами чужих трудов и принимает это как должное.
В то же время моя вера не мешала мне воспринимать все новое, что входило в быт, меняло образ жизни. Помню, как ишаны и муллы в дни моей юности украдкой внушали правоверным, что вся техника, радио, электричество — все это от шайтана. Я слушал, привычно соглашался с их мнениями и доводами. И тем не менее не только пользовался всем этим, но всегда бежал посмотреть, если в колхозе появлялась новая машина или новый механизм, а уж о кино и говорить нечего.
Когда отца призвали на трудовой фронт, мне пришлось бросить школу и пойти работать в колхоз. Трудился я хорошо всю войну, наравне со взрослыми. Инструктор райкома комсомола Умурзаков не раз ставил меня в пример, любил поговорить со мной о делах в колхозе, иногда даже советовался. Мне это нравилось.
После войны меня приняли в комсомол. Наверное, кому-нибудь это покажется либо парадоксом, либо недоразумением — парень искренне и убежденно верит в бога, строго соблюдает все предписания религии, не пропускает ни одной молитвы, увлекается чтением религиозной литературы, а его вдруг принимают в комсомол, в организацию молодежи, не только отрицающую существование любых сверхъестественных сил и явлений, но и считающую одной из своих задач пропаганду материалистических взглядов.
Но вряд ли кто-нибудь знал о глубине моей веры, о серьезности моих религиозных убеждений. Ни с кем, кроме матери, я этих вопросов не обсуждал. А соблюдение обрядов в те времена многие считали национальной традицией, и не везде этому придавали серьезное значение. Кроме того, и Умурзаков, и руководители нашей комсомольской организации, очевидно, думали, что активная жизнь в комсомоле поможет мне отыскать истину.
Ну а как же я, глубоко верующий человек, мог вступить в комсомол? Не погрешил ли против своих убеждений? Не сдвурушничал ли?
Уже тогда мусульманское духовенство по-разному относилось ко многим явлениям жизни. Если одни — в основном ишаны, бродячие муллы и шейхи — нашептывали простодушным верующим, что и Советская власть, и все, что она дала людям,— от шайтана и противно воле Аллаха, то другие —в основном служители мечетей — уже провозглашали, что Советская власть угодна Аллаху, поскольку сам Мухаммед был, дескать, первым социалистом и что власть, мол, чтит и претворяет в жизнь заветы пророка.
И хотя позиции духовенства, безусловно, влияли на взгляды людей, общую атмосферу, отношение людей к жизни определяло не духовенство, а все те же старейшины, сдержанно и немногословно обсуждавшие друг с другом но вечерам все, что происходило и в дворе, и в районе, и во всей стране. Вот эти-то аксакалы, среди которых немало было тех, что когда-то сам с оружием в руках устанавливал Советскую власть и дрался с басмачами, считали, что вступать в партию или комсомол — это очень хорошо, но при этом нельзя забывать и предписания веры. Как я теперь уже понимаю, их отношение к религии заключалось в обыденной простодушной мудрости. Религию они воспринимали как нечто естественно существующее — как воду, землю... Раньше, рассуждали они, вода была средством угнетения бедняка. Нет воды— нет урожая, нет урожая — нет жизни. Вода—¦ это жизнь! Но чем лучше урожай — тем дороже вода. И вот бедняк все равно остается бедняком, а богач богатеет еще больше. Так, говорили они, и религия. Когда властвовали баи и царские чиновники, религия и духовенство, охраняя их интересы, угнетали бедняков.
Конечно, и в Коране сказано и муллы постоянно твердили, что перед Аллахом все равны —нищий и богач, знатный и простолюдин. Но разве между собой эти люди были равны? И разве от равенства перед Аллахом богачи кормили всех голодных, а знатные делили кров со всеми бездомными? А ведь в Коране сказано: сироту не притесняй, раба отпусти, покорми бедняка, просящего Не отгоняй... Но разве этим указаниям Корана следовали богачи и знать, разве добивались от них этого муллы и имамы? Когда бедняк приходил с жалобой на притеснения и жадность богача, чем утешал его обычно мулла? Что отвечал ему знатный и властный? Они брали из Корана то, что им было выгодно, и говорили, что Аллах разделил среди людей их пропитание в жизни ближней и возвысил одних степенями над другими, чтобы одни брали других в услужение, и что Аллах велел не простирать своих глаз на то, чем он наделил некоторых — расцветом жизни здешней.
Вот и получается, рассуждали аксакалы, что, исполняя волю Аллаха, муллы могли добиваться, чтобы богатый всегда делился с бедным, властный не притеснял обездоленного, знатный уважал и помогал дехканину и ремесленнику. Но муллы если и напоминали об этом знатным и богатым, то лишь боязливо и униженно, зато бедным и обездоленным грозили всеми карами Аллаха, если они осмеливались роптать и возмущаться. Так на чьей стороне были слуги Аллаха? Кому служили они — народу или баям, Вовки Семакам и царским чиновникам? А теперь многие из них вспоминают лишь о том, что они, мол, призывали не притеснять сирот, накормить голодного и подать просящему. Конечно, было это, было. Только вот пользы от этих призывов не было. Ибо можно хоть сто раз сказать «халва», однако во рту от этого слаще не будет.
Теперь нет баев, нет царских чиновников, и религия теперь, как вода, как земля, принадлежит трудовому народу. Конечно, соглашались они, басмачи разбойничали под зеленым знаменем ислама. Но сама вера, мол, тут ни при чем.
Даже предписания религии старейшины рассматривали с классовых позиций. Какой бедняк, говорили они, мог содержать четырех жен? И что бы ни говорили муллы, сколько бы ни ссылались на Коран и на хадисы, аксакалы только неуступчиво покачивали головой и говорили, что, мол, баи это выдумали для оправдания своей жадности... Но такую же неуступчивость вызывали у аксакалов и те поступки, которые нарушали предписания Корана и шариата, казавшиеся старикам разумными. И даже те из старейшин, которые не верили в бога и не совершали намаз, не постились в месяц рамадан, старались не выставлять свое неверие напоказ, более того, считали, что вера в бога — это одно, а соблюдение требований шариата — совсем другое.
Все эти рассуждения казались мне тогда мудрыми и неопровержимыми. И лишь многие годы спустя; изучив все, на чем основывается ислам, пройдя мучительными путями поисков истины, я понял, как наивны были такие суждения, сколько ошибок и ложных представлений было в простодушной попытке аксакалов соединить несоединимое, доказать недоказуемое. Но понял я это очень не скоро. А тогда, еще юношей, я жадно внимал их степенным речам. И нет ничего удивительного, что неукоснительное соблюдение требований веры и пребывание в комсомоле не казались мне чем-то несовместимым. Для меня это были как бы два совсем разных пласта жизни, которые пока еще нигде и ни в чем не пересекались.
Вскоре я стал бригадиром комсомольско-молодежной бригады. Это было уже признанием моего трудолюбия и каких-то способностей. Отец стал гордиться мной, мать тоже, казалось, была довольна.
В 1946 и 1947 годах наша бригада занимала первое место по сбору хлопка среди комсомольско-молодежых бригад. Меня наградили медалью «За трудовую доблесть»,
Казалось бы, моя дальнейшая судьба была решена. Отец был рад, что я, как и он, выращиваю хлопок. Мне приятно было чувствовать уважение земляков. Но моя мать думала по-другому...
Однажды, в начале 1948 года, в ошской мечети Абдулахан было торжественно объявлено, что в Бухаре открылось медресе. Имам Шаппат-ходжи предложил направлять туда юношей, имеющих неплохое образование и ревностных в вере.
В тот день в мечети были и мои родители (по пятницам эту мечеть разрешалось посещать и женщинам). Могла ли мать, убежденная мусульманка, к тому же уверенная, что я отмечен особой милостью Аллаха, остаться равнодушной к такому призыву? С того вечера у нас в доме только об этом и говорилось.
Честно говоря, я и сам не знал, что делать. Мне было очень жаль расставаться со своей бригадой, да и в глубине души я понимал, что если поступлю в медресе, то огорчу тех комсомольских руководителей, которые возлагали на нашу бригаду и на меня большие надежды. Но, с другой стороны, мне очень хотелось стать слугой Аллаха, причем не каким-нибудь бродячим муллой или шейхом, а обязательно высокообразованным. В ту пору я был уверен, что, чем выше сан духовенства, тем ближе они к богу и тем угоднее ему и авторитетнее среди людей. И когда мать в ответ на мои колебания расплакалась, я решил последовать ее настоянию.
Помню, какой счастливой была мать, когда мы вместе пришли в мечеть и старики, собравшиеся там, решили, что я достоин стать воспитанником медресе.
В декабре я поехал в Бухару. О том, насколько я был искренен и простодушен, можно судить по весьма забавному эпизоду. Вместе с другими документами, необходимыми для поступления в медресе, я подал в приемную комиссию и комсомольский билет. Можете представить, какое это вызвало веселье. Но мне было не до смеха. Получилось, что я зря ехал в Бухару — комсомольцев в медресе не принимают. Так я впервые узнал, что вера и комсомол несовместимы.
Пасмурно было у меня на душе, когда я возвращался домой. Мучил стыд перед земляками. Но дома меня ожидали еще более огорчительные новости. Оказывается, пока я был в Бухаре, меня конечно же исключили из комсомола.
Короче говоря, доставил я хлопот и райкомовским работникам, и колхозному руководству..,
Казалось бы, моя дальнейшая судьба была решена. Отец был рад, что я, как и он, выращиваю хлопок. Мне приятно было чувствовать уважение земляков. Но моя мать думала по-другому...
Однажды, в начале 1948 года, в ошской мечети Абдулахан было торжественно объявлено, что в Бухаре открылось медресе. Имам Шаппат-ходжи предложил направлять туда юношей, имеющих неплохое образование и ревностных в вере.
В тот день в мечети были и мои родители (по пятницам эту мечеть разрешалось посещать и женщинам). Могла ли мать, убежденная мусульманка, к тому же уверенная, что я-отмечен особой милостью Аллаха, остаться равнодушной к такому призыву? С того вечера у нас в доме только об этом и говорилось.
Честно говоря, я и сам не знал, что делать. Мне было очень жаль расставаться со своей бригадой, да и в глубине души я понимал, что если поступлю в медресе, то огорчу тех комсомольских руководителей, которые возлагали на нашу бригаду и на меня большие надежды. Но, с другой стороны, мне очень хотелось стать слугой Аллаха, причем не каким-нибудь бродячим муллой или шейхом, а обязательно высокообразованным. В ту пору я был уверен, что, чем выше сан духовенства, тем ближе они к богу и тем угоднее ему и авторитетнее среди людей. И когда мать в ответ на мои колебания расплакалась, я решил последовать ее настоянию.
Помню, какой счастливой была мать, когда мы вместе пришли в мечеть и старики, собравшиеся там, решили, что я достоин стать воспитанником медресе.
В декабре я поехал в Бухару. О том, насколько я был искренен и простодушен, можно судить по весьма забавному эпизоду. Вместе с другими документами, необходимыми для поступления в медресе, я подал в приемную комиссию и комсомольский билет. Можете представить, какое это вызвало веселье. Но мне было не до смеха. Получилось, что я зря ехал в Бухару — комсомольцев в медресе не принимают. Так я впервые узнал, что вера и комсомол несовместимы.
Пасмурно было у меня на душе, когда я возвращался домой. Мучил стыд перед земляками. Но дома меня ожидали еще более огорчительные новости. Оказывается, пока я был в Бухаре, меня конечно же исключили из комсомола.
Короче говоря, доставил я хлопот и райкомовским работникам, и колхозному руководству.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.