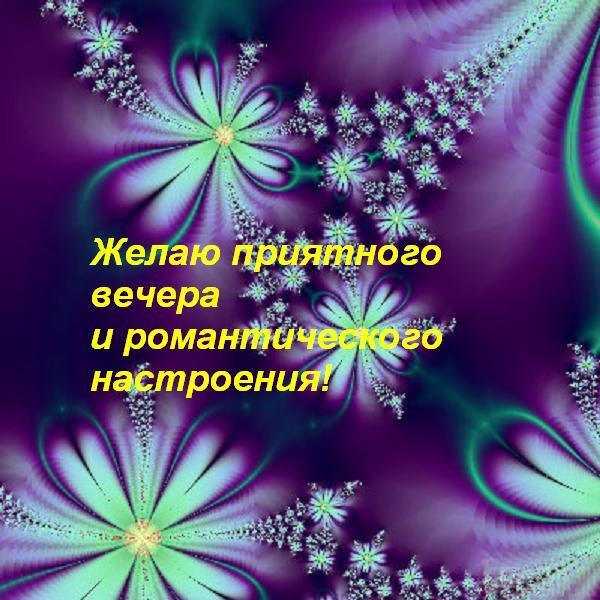Зойка стучит карандашом по графину.
— Тише, товарищи! .. Тише! Начнем нашу встречу...
У нас в гостях Алексей Петрович Буренков. Вы все знаете
Алексея Петровича. Он участник трех войн и трех революций, организатор нашего Митьковского колхоза. Сегодня он пришел к нам, чтобы рассказать о своей жизни.
Давайте поприветствуем Алексея Петровича...
Буренков встает из-за стола и подходит к трибуне. Спокойно пережидает, когда зал затихнет. Зойке кажется, что старик злой.
— Приветствуете вы меня как министра, — вдруг, улыбнувшись, говорит Алексей Петрович. Зойка видит его улыбку и думает: «Ну, слава богу, все хорошо».— Признаться, я не привык к аплодисментам, хотя выступал на всяких собраниях и заседаниях очень много раз, — продолжает Буренков. — На меня все больше шипела публика. Один раз солеными огурцами забросали бабы. На базаре дело было. Я против попов выступал. Правда, я не растерялся: поймал один огурец и съел, а остальные пролетели мимо.
— В зале захлопали, засмеялись. — Так вот, значит, — Буренков уже повысил голос, глаза его разгорелись, — я и говорю — не привык к аплодисментам. .. Тут Демкова сказала, что я участник всех войн и всех революций...
— Нашего века, — уточняет Зойка.
— Понятно — нашего. Но я вам так скажу. За свою короткую жизнь, — в зале опять засмеялись, — я выдержал три великих битвы. Три: битву против бога, битву против царя и капитала и битву против мужика-собственника, Хотя, признаться, с мужиком-собственником до сих пор воюю... Но, погодите, расскажу по порядку. Про то, как с богом воевал, рассказывать не стану, потому как все вы уже неверующие и сущая правда вам басней покажется или, как нынче говорят, байкой. А вот про то, как царя скинули с престола, расскажу... Царь для вас нынче тоже, как бы сказать, анекдот, кукла с усами. Однако ж дело происходило в этом самом клубе, тут приходская школа тогда была. Так что, думаю, послушать надо. Да и к тому же цари бывают коронованные и некоронованные. Коронованных больше не будет. А некоронованные нет-нет да и появляются. То в Чуровичах, то в Семеиовке, то в Митьковке... Но это я между прочим. Мы еще вернемся к некоронованным. А сейчас — про Николашку. — Буренков откашлялся. Зойка поставила на трибуну стакан с водой. — Как вам, должно быть, известно,— продолжал Алексей Петрович, — манифест об отречении Николаем Вторым подписан второго марта, в пятнадцать ноль-ноль часов, тысяча девятьсот семнадцатого года. Но это от того — от главного престола он отрекся. А был у него еще престол здесь, в Митьковке. Да, да. Вот тут, на этой стенке, — Буренков показал на задник сцены, — висел его портрет. И с этого престола я его скинул лично. Но не второго марта, а, не наврать бы вам... двадцатого. Как было дело, сейчас расскажу... Прихожу я в это самое помещение часов этак в семь, темнеть уж начало. Гляжу, народу — не протолкнешься. А на сцене незнакомый мне солдат и две бабы. Вторую уж не помню. А одна... — Буренков неожиданно оборачивается к Зойке: — Твоя, стало быть, бабка. Слышишь, Демкова? Дарья. Может, не забыла?
— Помню, — немного смутившись, отвечает Зойка.
— Да, — продолжает Буренков.
— И вот, значит, гляжу, солдат к царскому портрету тянется, сорвать, видно, хочет. А бабы того солдата оттаскивают. «Антихрист! — кричат. — Иуда! Нешто можно без царя-батюшки нам жить?» И в зале тоже — галдеж, бабий визг... Я вижу такое дело — надо, думаю, пробираться на сцену, порядок наводить. А тоже шинельку носил. Крючки мне покойница Марья понашила крепкие, да еще ремнем подпоясан. Ничего, думаю, проберусь невредимым. И пробрался.. . Выхожу на сцену — вот на эту самую — и руку поднимаю: тихо, мол, граждане! А этим, которые на сцене, командую: айда, говорю, в зал! Дарья на меня: «Ты .кто такой, чтоб командовать тут?» — «А нешто, говорю, не узнаешь?» — «Москаль, по тюрьмам шатался».
— «Шатался, — говорю. — В тюрьмах-то икрой кормили, шампанским поили, вот я и шатался. А сейчас, говорю, я уполномоченный по четырем соседним волостям царя скидывать с престола». — «А мандат у тебя имеется?»— спрашивает Дарья. «Ишь ты, говорю, какая образованная стала. Имеется мандат. Сам Николашка Второй подписал. Вот он». И показываю — манифест. «Почитай», — говорит Дарья. «Почитаю. Только ты иди садись на место. ..» Одним словом, проводил я всех со сцены. А Дарье сказал: «Слушай, говорю, соседка, ежели тебе так мил Николашка, возьми, говорю, портрет с собой, в постель рядышком положишь». Дарью мою со сцены как ветром сдуло. .. Ну, а я, значит, продолжаю. «Вот, говорю, граждане, дело какое. За царя заступаетесь, а кто он такой, не знаете. А между прочим, Николай Второй Романов — богач из богачей, первый помещик в России. Земли у него, позвольте вам доложить, сорок пять миллионов пятьсот тысяч десятин. — Как я это сказал, так все и ахнули, А я говорю:
—Тише, граждане, я еще не кончил. Сорок пять миллионов пятьсот тысяч десятин — это только кабинетские земли, Алтайский и Нерчинский округа. А имеются у него еще и удельные земли — восемь миллионов десятин. Лучший чернозем, лучшие луга и угодья. Царь-батюшка часть этой земли сдавал в аренду крестьянам, за что получал от крестьян двенадцать миллионов рублей ежегодно. Во как. Но царь — не только помещик, он крупный капиталист. Сто фабрик и заводов — фарфоровых, бумажных, стекольных — его собственность. Да плюс прибавьте тысяча пятьсот мельниц да рудники. Однако ж всего этого Романовым мало. Они — крупнейшие виноделы в стране. А вино — сами понимаете — оно что золото. Двадцать миллионов рублей в год. Во мак. В народе про царские кабаки песня поется:
Ох, горе нам, монахам, Нам на свете горе жить, Во царев кабак ходить,
Во царев кабак ходить — Зелено вино там пить...»
Да, пропел я эту песню, в зале тихо. Тогда я продолжаю. «Столетиями, говорю, умножали Романовы свои несметные богатства, а денежки хранили в английском банке. На содержание своего царского двора царь не тратил ни копейки. Лапотная Россия по этому случаю облагалась налогом в семнадцать миллионов рублей в год. Кроме этого, выплачивалось жалованье всем особам царствующего дома. Царица получала двести тысяч рублей в год, наследник престола—сто тысяч, а все остальные дети — по двадцать тысяч каждый на леденцы и семечки. .. Да не забудьте к этому ко всему прибавить царские и великокняжеские имения и дворцы в Крыму и на Кавказе. Однако ж всего этого им, царям, было мало. Каждый царь сверх того, что имел, потихоньку подворовывал. Александр Третий, например, незаконно присвоил себе имение Мургаб. Вот как, граждане дорогие.. .»
Тут я, сказавши это, замолчал. Передохнул. Вижу — мужички мои притихли. «Ну что, говорю, познакомились с царем-батюшкой? — И поворачиваюсь снова к Дарье.
— Что, соседушка, притихла? Может, у тебя тоже царевы доходы? Только я давеча приметил: у Игната твоего на заднице преогромная заплата из дерюги. Да и сама, гляжу, юбку-то свою самотканую носишь ив будни и в праздники все одну. Как говорится — ни шелков, ни штанов. Так, что ли?» Дарья обиделась. «Ты, говорит, дело свое говори, а меня не тронь». —- «А мое дело, — отвечаю я, —¦ такое оно и есть: против врагов твоих бороться. Ты, говорю, по дурости своей не понимаешь, где враги твои, а где друзья. Поэтому, говорю, сиди и слушай. — Тут я достаю манифест и читаю: — «Божьей милостью, мы, Николай Второй, император Всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем нашим верноподданным.. .» Закончил я чтение этого манифеста, где, значит, Николай отрекся от престола, и, сразу, ни слова не говоря, подхожу к царскому портрету и снимаю его со стенки. Потом перевернул*'и в угол его ставлю. Конец царскому престолу в Митьковке, царской власти во всей России. Но тут я слышу вроде всхлипы в зале. Подхожу, значит, на край сцены, приглядываюсь, а у окна старушки плачут. «Что, бабуси, говорю, все ж таки жалко царя-батюшку?» — «Да, не жалко, Алеша. Страшно, милый. Как можно без него-то?» Страшно? Триста лет нас, дураков, в страхе держали. Царем да богом мужика скрутили и вили из него веревки. Хватит! Не на страхе, на сознании жить будем. А ежели кто вновь стращать начнет и на корону претензии выказывать, так мы его...
Зойке показалось — кто-то постучал в дальнюю дверь. Она прислушалась. Встала, вышла в коридор. Нет — тихо. Снова вернулась к столу.
Долго она, должно быть, уже сидит, задумавшись.
В машинку заложен чистый лист бумаги. Напечатано две строчки крупным шрифтом:
«Мои воспоминания о тяжелом пути моей жизни».
Зойка перечитала. «Мои... моей» — плохо. Впрочем, печатать надо так, как написано в тетрадях. При чтении ошибки не раздражают. Наоборот, неправильные фразы, старая орфография и просто неграмотно написанные слова придают запискам какую-то особую атмосферу достоверности. Сцену встречи Буренкова с комсомольцами и рассказ старика о том, как он скинул царя с престола, Зойка просто вообразила себе. Замечталась и вообразила. Только что она прочла про Николая Второго и манифест в тетрадях, которые взяла у Алексея Петровича, чтоб размножить на машинке текст. Да днем еще, за чаем, Алексей Петрович рассказал о том же. Вот и представилась Зойке в живых картинах будущая встреча в клубе, которую она обязательно-обязательно скоро организует. Просто совестно! Такой человек живет в Митьковке, сама, живая история, и никто о нем не знает.
Зойка подошла к окну. Густая сочная тишина поглотила дома, деревья, заборы. И небо было такое же черное, как стена кустарника за пустырем. Только недалеко от освещенного окна лежало на бугорке небольшое желтоватое пятно света, как растоптанный подсолнух.
После рассказа Буренкова Зойка все время почему-то думает и о своей бабке Дарье — маленькой, очень подвижной, крикливой старухе. Зойка ее помнит. И, может, потому, что помнит, никогда не связывала бабку со столь далеким прошлым. А оказывается, она-то и есть самое настоящее прошлое, это при ней были цари, верили в бога и всего на свете боялись. И Зойка не то чтобы поняла, но странным образом ощутила эту свою связь с прошлым. Стоя у окна и вглядываясь в ночь, она думала о том, что хотя бабка Дарья и ушла из жизни, но ведь какую-то частицу своего «я» оставила, что-то доброе, а может, и злое передала людям, и это доброе, а может, и злое еще существует на свете.
Но ведь Алексей Петрович — тоже прошлое! Однако он жив, и, значит, прошлое его еще теснее связано с настоящим. . .
Мысли эти, показавшиеся Зойке поначалу значительными, не подводили ее, однако, ни к какому выводу, и она отмахнулась от них.
Ах, Алексей Петрович! Как просиял он, когда Сергей сказал, что они поженятся! А она с таким страхом ждала этой минуты! Чего боялась? Вот Ольга —да, та никак не отреагировала на новость: плевать, мол, ей на них обоих. Злая она, Ольга, злая. И тетка тоже злая. Чего от них ждать?
А теперь уже все свершилось. Завтра о свадьбе будет знать вся Митьковка. Только бы Сергея отпустили с работы еще на недельку. Сыграют свадьбу и уедут.
Подумав об этом, Зойка в который раз поймала себя на мысли, что она и счастлива, и чуть страшновато ей все-таки. И непонятная тревога притаилась в ее душе. Как-то по-другому надо бы все сделать! Но как? .. Этого она не знает. И потому ей кажется, что вместе со своей девичьей свободой потеряла она прежнюю уверенность в себе. И от этого становится немного грустно.
Она пододвинула к окну стул и села.
«Пусть будет, как решил Сергей, — сказала себе Зойка и повторила, чтоб глупые мысли не лезли в голову и чтоб успокоиться: — Пусть будет, как решил Сергей!»
И, сказав так, на самом деле сразу почувствовала себя увереннее. Сергей — необыкновенный человек. Она его не просто любит, она уже не сумела бы жить без него.
Зойка облокотилась на подоконник, положила голову на руки, улыбнулась, вспомнив, какие серьезные проблемы волновали ее вначале и до каких пустяков она дорассуждалась. «Не философ я! Ох, не философ!» >
— Демкова! —услышала Зойка и почувствовала, что
ее толкнули.
Она подняла голову и увидела затянутый слезой Ольгин глаз.
— Беда, слышь! — У Ольги дрожали губы. Она вцепилась руками в створки окна.
Зойка вскочила на ноги. От внезапно охватившей ее тревоги застучало в висках.
— Что? — испуганно спросила она.
— Старый помирает. — Ольга кулаком протерла глаз. В нем было столько страдания и горя, которого она никогда не умела высказывать людям, что Зойка, почувствовав, что ничем не может помочь, и сама не сдержала слез.
— Что делать, Оля? . За врачом надо?
— На кой он леший — врач? Сергея Михайловича старый требует. Из дому прогнал. «Езжай, говорит, срочно за ним».
Зойка окончательно растерялась:
— Но ведь он в Ропске. Как же.. .
— Вот то-то ж и есть — как же... Бежи к Житнику, может, даст машину.
— А успеем?
— Гадать будем — не успеем. Бежи!
— Подожди меня, — сказала Зойка и закрыла окно.
«Ехать надо. И Якова Васильевича привезу. Не первый раз старику плохо. Может, обойдется», — собираясь, думала она, пряча в стол тетрадки Буренкова. Потом взяла ключи, погасила свет и вышла из библиотеки.
На первый взгляд все здесь было как в хорошем городском ресторане: большие окна, колонны, паркет, люстры, белоснежные скатерти на столах, легкие современные стулья, в глубине —эстрада для оркестра. Однако Сергей, едва вошел, почувствовал какое-то беспокойство, как если бы вдруг увидел вместо настоящей статуи уродливую фигуру из камня, лишь отдаленно напоминающую человека.
В ресторане были нарушены все привычные пропорции: потолок низок, гладкие круглые колонны слишком массивные, стулья маленькие, люстры тяжелые и огромные, а свет от них ничтожный. На больших окнах — кургузые занавески, а эстрадная площадка походила скорее па подмостки настоящей сцены.
«Ну и ну», — подумал Сергей и прошел в дальнюю часть зала, где у самого окна стоял маленький столик.
Он не испытывал голода, но решил все же пообедать, чтобы освободить Якова Васильевича, у которого сегодня заночует, от необходимости готовить ужин.
В последнюю секунду, когда уже подошла официантка и развернула свой ершистый блокнотик, чтоб записать заказ, Сергей решил взять сто грамм «столичной».
— Сто? — с удивлением переспросила официантка, подняв на Сергея свои маленькие, густо подведенные черной краской глаза. Она была уже немолодая, полная и, хотя явно злоупотребляла косметикой, производила все же приятное впечатление: бесхитростность и доброта были в ее взгляде. По красным кистям ее рук и истертым
до самой кожи ногтям нетрудно было понять, что она из тех женщин, которые живут в одноэтажных деревянных домах, без газа и водопровода, одевают и кормят большую семью.
Он улыбнулся:
— Можно сто пятьдесят... Затем — сыр, какой-нибудь салат. Ну и что у вас на второе?
— Возьмите лангет.
— Давайте.
Официантка записала. Видя, что Сергей улыбается, спросила:
— Что вам так весело?
— Понимаете, всюду, куда ни приедешь, в ресторанах лангеты.
— Чего ж тут такого? Стандартные блюда, молодой человек. — Официантка ушла.
Сергей достал из кармана «Правду», прихваченную по дороге в киоске, и стал читать.
— Кого я вижу, батюшки! —услыхал он знакомый голос. Вслед за этим задвигались стулья, будто все, кто был в ресторане, повставали с мест.
Сергей оторвался от газеты и сразу увидел сияющее лицо Антона Николаевича. Сокращая путь, редактор шел между столами, обходя то одну компанию подвыпивших людей, то другую, задевая за стулья, извиняясь, и никак не мог выбраться из узкого прохода.
Озаренное улыбкой лицо Антона Николаевича и это его желание поскорее преодолеть разъединяющее их расстояние тронули Сергея. Он встал навстречу редактору и, когда тот наконец подошел, крепко пожал его руку.
— Очень рад, Сергей Михайлович! Признаться, не сразу поверил своим глазам, что это вы. Какими судьбами?
Они сели.
— Приехал позвонить в Москву, — сказал Сергей.
— Ах вы чудак! И не могли прийти ко мне? — Антон Николаевич был, кажется, искренне обижен. — Сейчас пообедаем — и прямо в редакцию.
— Я уже позвонил, Антон Николаевич. Спасибо.
— Потратили массу времени?
— Пустяки.
— Если не секрет, насчет отпуска?
— Да.
— Ну и как? Удалось продлить?
— Нет, придется на недельку съездить. Срочные дела. Антон Николаевич задержал на Сергее взгляд.
— И домой звонили?
— Дома я один.
— Ах, вот как.
— Хорошо бы, пожалуй, приятелю позвонить. Сразу не сообразил.
— Ради бога.
— Но это попозже. Он дома не сидит по вечерам.
— Хорошо, позвоним попозже.
— Стоит ли вас беспокоить.
— Почему беспокоить? Вы думаете, пообедаю — и домой?— Антон Николаевич махнул с разочарованием рукой. — Как бы не так. Самая горячка вечером, когда идут полосы. Так что никакого беспокойства, зайдем и позвоним.
Антон Николаевич раскрыл меню.
— Вы уже заказали?
— Да, на скорую руку.
Редактор достал из кармана свои очки в светлой роговой оправе:
— Я считаю — один раз в день надо хорошо поесть,— Он полистал меню. — Между прочим, здесь из отличного мяса готовят лангеты.
Сергей улыбнулся.
— Что вы?
— Я заказал именно лангет.
— Очень хорошо. И борщ, да?
— Нет, — сказал Сергей.
Подошла официантка.
— Здрасте, Марья Степановна. — Редактор снял очки. — Значит, так: мой любимый салат, борщ, лангет.., Семга есть сегодня?
— Две порции, наверное, найдем,— сказала официантка, разглядывая Сергея.
— Отлично. И еще нам — «столичной». — Редактор взглянул на Сергея, — триста грамм.
— Сто пятьдесят уже заказано, — сказал Сергей.
— Ну тогда . — Редактор замялся.
— Да ладно вам! Мужики называется! — Официантка спрятала в карман передника свой ершистый блокнотик, поправила скатерть и отошла.
Редактор беспомощно пожал плечами — что, мол, поделаешь, принесет еще триста. — Вы тут постоянно обедаете? — спросил Сергей.
— Да, если я в редакции. Мне тут близко, знаете.—
В больших красивых глазах Антона Николаевича все еще светилась радость встречи или, пожалуй, точнее, предвкушение чего-то, чего он ждал от Сергея, надеялся с его помощью выяснить. По не выглаженному воротничку сорочки, помятому галстуку, надорванному боковому кармашку на новом пиджаке, даже по его всклокоченной шевелюре с чуть тронутыми сединой висками,
которые, впрочем, только подчеркивали строгую красоту лица, можно было предположить, что человек этот, доживший лет до тридцати пяти, закоренелый холостяк.
Сегодня он впервые был приятен Сергею.
«Надо сказать, что женюсь, — подумал Сергей. — Будет неудобно, если он узнает от других».
— Ну, что нового, Сергей Михайлович, в Митьковке? —спросил редактор.
— Могу вас обрадовать, нашлись записки Алексея Петровича.
— О, мы обязательно напечатаем несколько отрывков. А как его здоровье?
— Да вроде ничего.
— Могучий дед! Могучий!.. Между прочим, и у нас кое-что нашлось. Доктор Дубинин Яков Васильевич — вы знакомы, кажется? — принес нам статью Буренкова, опубликованную в нашей газете в тридцатых годах. Любопытный материл. Будем давать.
— О чем там?
— Зайдем в редакцию — я вам покажу. Девятьсот седьмой год. Арест и побег... С портретом, кстати сказать. Старик как будто сегодня снят. Совершенно не изменился! С бородкой. А прошло ведь без малого тридцать лет! Черт возьми, другая эпоха..,
Сергей с любопытством наблюдал за Антоном Николаевичем.
Официантка принесла заказ. Сергей увидел на подносе два графина с водкой и удивился — как это много четыреста пятьдесят граммов! Впрочем, с хорошей закуской можно выпить.
— Знаете, Сергей Михайлович,— заговорил редактор, когда официантка, составив на стол графины и закуску, ушла. —Не так давно произошло в моей жизни одно событие, которое заставило меня задуматься над тем, как я живу. — Редактор наполнил рюмки и продолжал: — Вы человек для меня свежий, нездешний и, как мне показалось, отзывчивый, мне с ,вами легко будет разговаривать. Он виновато улыбнулся: — Если, разумеется, вы не возражаете.
— Что вы! Конечно! —сказал Сергей и подумал: «Человек чем-то встревожен».
— Но прежде давайте выпьем, — предложил редактор. — За встречу.
Сергей поднял рюмку и улыбнулся:
— Не напиться бы нам.
— Ну, что вы! Мне еще в редакцию, и то, как видите, не боюсь. — Они чокнулись, выпили.
Семга была свежая, из холодильника, и Сергей хотел пошутить, что в Ропске не жизнь, а малина, но Антон Николаевич уже был серьезен и приготовился продолжить разговор.
— Понимаете, Сергей Михайлович, — заговорил он, поковыряв вилкой в салате. — Откровение мое будет носить чисто философский характер, но вы не удивляйтесь. К общему мы всегда приходим от частного. Об этом частном я вам потом расскажу. ..
Сергей ел и с интересом смотрел на редактора. Или Антон Николаевич щеголял своим умением обстоятельно говорить, или за этим многословием скрывалось желание исподволь подвести к какому-то небезразличному для Сергея событию.
— Так вот, — продолжал редактор. — Странное я сделал над собой наблюдение, Сергей Михайлович. Работаю я много, как вы догадываетесь. Плюс — общественные нагрузки. Но тем не менее свободные часы выдаются. Иногда даже целыми днями предоставлен самому себе. И что бы вы думали? В такие часы и дни я чувствую себя совершенно растерянным. То есть я могу себя загрузить чтением, физкультурой, ну, словом, чем-нибудь полезным. Но все равно ощущения той душевной наполненности, которая необходима человеку для счастья, нет. Нет, честное слово! Этакой пустой бочкой себя чувствуешь. — Редактор перевел взгляд на окно, минуту молчал, лицо его болезненно морщилось. — Или оттого это у меня, что по сути своей я исполнитель чужой воли, по каждому вопросу привык советоваться «наверху», а в свободное время мой советчик—это я сам. И мне как-то неуютно от этого, я даже растерян. Или тут какая-то другая причина? Бог его знает. Но отвратительно, поверьте, чувствовать себя щепкой, плывущей по волнам. — Редактор встрепенулся: — Вот это точно! Никакая не бочка, а именно щепка.
— Он быстро взглянул на Сергея. — Вам не смешно?
— Нет, — серьезно ответил Сергей. Его больше всего затронуло редакторское выражение — «душевная наполненность». Сергей знал, за этими словами стоит большой жизненный вопрос, потому что действительно есть люди целеустремленные, именно душевно наполненные, а есть — пустые.
Редактор взял графин и снова налил себе и Сергею.
— Давайте еще по одной.
— Антон Николаевич, а почему вы до сих пор не женаты? Если, конечно, это не секрет.
— Да нет. Я уж, знаете ли, привык к этому вопросу... Донимают, знаете ли...
— Особенно женщины?
— Совершенно верно.
— Так почему же?
— Видите ли, все по тем же причинам.
— А именно?
— Не окончено, так сказать, движение. Мечтаю о росте. А кроме того, если откровенно сказать... — Редактор помолчал. — Что такое, Сергей Михайлович, женитьба? ..
— Ну, надеюсь, нам с вами это более или менее понятно, — улыбнулся Сергей.
— Нет, если детально рассмотреть этот вопрос. Сергей развел руками.
— Ну, если детально — честное слово, не знаю.
— А я вам так скажу. — Антон Николаевич продолжал оставаться серьезным, и Сергей понял по его серьезности, что редактор не раз размышлял на эту тему. —
Я вам так скажу... Представьте себе ситуацию: в вашем пистолете осталась одна пуля, а выстрелить вы должны непременно в яблочко, иначе — все прахом. Вы должны
целиться очень долго, чтоб не промахнуться...
Сергей рассмеялся:
— А вы, оказывается, расчетливы, Антон Николаевич! .. Но, смотрите, не получилось бы наоборот.
— Почему? — насторожился редактор.
— Так обычно случается с теми, кто слишком долго прицеливается.
После третьей рюмки Сергей почувствовал некую легкость в теле, повеселел.
— Может, это трусость моя довела меня до подобных рассуждений? — в раздумье и по-прежнему с серьезным видом произнес редактор.
— Или ваш шумный успех у женщин, — продолжил Сергей, подлаживаясь под интонацию собеседника.
— Шумный? — Редактор насторожился. — Почему же шумный?
Сергей громко захохотал.
«Да он, кажется, порядочный трус, — подумал он. — Испугался за свою репутацию, бедняга!»
Официантка принесла лангеты.
Пододвинув к себе горячую тарелку, Сергей весело сказал:
— Хороши лангеты!
— Так вы ж еще не пробовали.
— А я и так вижу. Официантка улыбнулась:
— Ешьте, ешьте, а то окосеете у меня. — И ушла. «Черт возьми,— подумал Сергей.— Я, кажется, пьян».
— Так почему шумный, Сергей Михайлович? — переспросил редактор.
— Я хотел сказать — не шумный, а большой. Просто неточно выразился.
— И не большой, и не шумный, — строго заметил редактор.— Но, конечно, всякое бывает. Ведь нас, мужчин, гораздо меньше, чем женщин.
— Не в том дело, — возразил Сергей. — Дело в вашем обаянии, Антон Николаевич.
— Вы все шутите, Сергей Михайлович. А я ведь к вам — с разговором. — Он выдержал долгий взгляд Сергея, и тот понял, что редактор в самом деле ждет его .совета.
— Что я могу вам сказать, Антон Николаевич? Жениться, конечно, надо. Но это, я думаю, никого еще не избавляло от душевной пустоты, если она действительно есть в человеке.
— Нет, я понимаю. Это совершенно разные темы...
К столу приблизились двое. Высокий не гроподобный
парень, неторопливый и флегматичный, и низкого роста бледнолицый человечек с бородавкой на переносице. Он поминутно то опускал, то вскидывал брови, будто хотел освободиться от этой надоевшей ему бородавки. Оба были в потертых черных пиджаках и напомнили Сергею Пата и Паташона.
— Если разрешите, мы к вам, Антон Николаевич, —
сказал Паташон.
Редактор замялся с ответом.
— Пожалуйста, — сказал Сергей.
Тогда Антон Николаевич быстро заговорил:
— Познакомьтесь, Сергей Михайлович. Ответственный секретарь нашей газеты, моя, так сказать, правая рука, — Олег Максимович Крючкин. — Он показал на человека с бородавкой. — И наша знаменитость — поэт Вася Воронов. — Улыбаясь, редактор по-приятельски похлопал высокого парня по плечу.
Сергей встал и молча поздоровался. У поэта была мягкая горячая рука.
-— Заказать что-то надо, — сказал редактор.
— А мы уже на ходу заказали. Сейчас Марь Степан-
на принесет.
Маленький ответ секретарь, севший рядом с Сергеем,. никак не мог пристроить свои'локти на столе и долго прилаживался, ерзая на стуле.
— Мы прервали вашу беседу?—-сказал он, обращаясь к Сергею.
— Да нет, ничего, — возразил Сергей и убрал со стола газету.
Официантка принесла заказ. Как и ожидал Сергей, те же лангеты, графин водки, хлеб. Она быстро составила все на стол и убежала, бросив лишь: «Минутку, молодые люди».
У выхода несколько человек ссорились или даже дрались. Из-за колонны Сергей не мог их разглядеть, но слышал отдельные возгласы, скрип двери. Что-то упало ¦ на пол и разбилось со звоном.
— Не обращайте внимания, — сказал редактор. — Сейчас их уймут. — Он быстро наполнил рюмки. — Давайте перед горячим выпьем по одной.
— Кто по одной, а кто по пятой, — рассмеялся ответ-секретарь.
Лангет был и в самом деле вкусный, по-особому поджарен и напоминал шашлык по-карски, который Сергей со своим приятелем Коржем не раз ел в «Арагви».
— Да, кстати!—снова встрепенулся ответсекретарь, обращаясь к редактору. — Пока не забыл, Антон Николаевич. Все в порядке: заголовок передовой переделан.
— Как теперь? — спросил Антон Николаевич.
— «Новое сегодня — старое завтра».
— Дважды два— четыре,— вставил занятый лангетом Воронов.
Ответ секретаря словно оса укусила.
— Вот, ей-богу! Что ты мне спокойно поесть не даешь? Чем плох заголовок?
— Плох, — сказал поэт.
— Чем?
— Не удивляет. Вот если наоборот сказать, это еще
кое-как прозвучит.
— То есть как?
— Старое сегодня — новое завтра.
— Чушь! Логики нет!
— Кому нужна твоя логика? Народ нынче удивлять надо. Не удивишь — не заметят.
Ответ секретарь вскочил, задев Сергея локтем. Бородавка у него побагровела.
— Ну, знаешь!
Антон Николаевич протянул через стол руку и усадил своего помощника на место.
—¦ Брось, Олег Максимович. Ты что, не видишь? Воронов шутит. — И тут же повернулся к поэту: — Вася, почитай лучше стихи, пока эстрада молчит.
Сергей с интересом наблюдал за Вороновым. Молодой поэт нравился ему: медлительный в движениях, спокойный, кажется, умный. А грубит он, вероятно, не от характера, а нарочно, чтобы скрыть за внешней грубостью свою природную застенчивость. Вот Антон Николаевич, судя по всему, это понимает. Похоже, что ответсекрета-рю часто приходится терпеть этого дерзкого поэта, потому что редактор по зову ли Души или по указанию сверху покровительствует молодым дарованиям.
Воронов между тем молча пододвинул к себе фужер, почти полностью наполнил его водкой и сказал:
— Ладно. . . Слушайте.
Он начал читать. Монотонно, с мрачным видом, глядя на фужер с водкой.
Это были странные стихи. Сергей не улавливал ритма, не слышал рифмы, но сразу представил себе картину, которую нарисовал поэт.
.. .Белые больничные окна, зарешеченные весенней капелью. У окон перебинтованные, на костылях, бледнолицые люди в полосатых халатах. За черным газоном, где только-только растаял снег, — асфальтированная дорога, ведущая к подъезду. На двери висит табличка «Приемный покой». Здесь стоит «Скорая помощь». На носилках выносят, как тяжелую вещь, больного. «Скорая» уходит, подходит другая. Затем третья, словно по расписанию. Из окон больницы больные глядят на «Скорую», как на поезда дальнего следования. .. На черных газонах — вороны. Они вдруг поднялись вверх и, радостно галдя, перелетели чугунную ограду, за которой длинной полосой голых деревьев обозначена река. Там резвятся мальчишки, и там будут пить холодную весеннюю воду птицы. Хотя исцеляющий нож хирурга уже удалил больные органы у людей, стоящих сейчас у окна, и швы зашиты, все равно эти люди никогда-никогда уже не будут мальчишками и уже не смогут сосать, как леденцы, холодные сосульки.— весенние подарки здоровым и беспечным. Но почему же, исцеляющий нож хирурга, почему, вернув человеку жизнь, ты не можешь вернуть ему молодость? ..
Сергей с удивлением смотрел на Воронова и думал — неужели такой крепкий парень уже побывал под ножом хирурга? Или он просто-напросто придумал все это?
А Воронов, покрутив рукой фужер с водкой, начал читать второе стихотворение. О том, что он, как пчела, собирает нектар. Он ходит по дорогам и людские страдания, людскую радость, надежды, мечты, слезы, молитвы неверующих собирает в свою поэтическую сумку... И когда поэтическая сумка наполнится доверху, он приходит к людям. Он хочет, чтобы один человек знал о другом, потому что человек превращается в зверя, когда перестает понимать ближнего.
Сергей быстро повторил про себя это стихотворение, как оно ему запомнилось, и попросил Воронова:
— Еще, Вася. Читайте.
— Хватит, — ни на кого не глядя, ответил Воронов, взял фужер с водкой и не спеша стал пить.
Неугомонный ответ секретарь встрепенулся:
— Ну, что скажете, товарищи? По-моему, чистейший дедаданс! Беспросветно! ..
— Может, и декаданс, но не примитив, по крайней мере, — рассердился Сергей.
Антон Николаевич строго посмотрел на своего помощника, и тот сразу притих.
— Устал, Вася? — спросил редактор, незаметно подсовывая ему салат, и спросил: —Вам понравилось, Сергей Михайлович?
Может, оттого, что Сергей был уже под хмельком и, как всегда в таком состоянии, легко раздражался, а может, оттого, что после Васиных стихов весь долгий разговор с редактором казался ему теперь пустым и ненужным, но он ответил довольно резко:
— Что значит — понравилось или не понравилось, Антон Николаевич? Важно, что это честно и талантливо.
На эстраде словно только и ждали, пока Сергей выскажется. Оркестр рявкнул так, что все вздрогнули. Со все нарастающей силой загремел старомодный фокстрот, и не было никакой надежды, что отдохнувшие за день музыканты поубавят свой пыл.
— Сейчас я с ними поговорю, — сказал, вставая, Воронов.
Антон Николаевич остановил его:
— Сиди, Вася. Нам уже пора. — Он разлил по рюмкам оставшуюся в графинах водку и посмотрел на Сергся:
—Давайте за наше знакомство, Сергей Михайлович? ..
Выйдя из ресторана, все остановились и стали закуривать. Сергей тихо пошел по тротуару, он не любил курить на свежем воздухе.
Главная улица была плохо освещена. Тусклая лампочка над входом в ресторан — и ни одного фонаря до самого перекрестка,
Сергей вспомнил, что должен был взять часы из ремонта, — не забыть бы завтра зайти в мастерскую. Правда, в деревне легко обходиться и без часов, но здесь, в Ропске, они необходимы.
Сергей остановился, чтоб подождать редактора и его товарищей, и вдруг перед ним выросла фигура грузного высокого человека. От его одежды пахло бензином.
— Эй, ребята, вот он! — крикнул в темноту верзила
и схватил Сергея за галстук.
Сергей оттолкнул от себя хулигана и отступил на шаг. Но тут же от сильного удара полетел на тротуар.
Когда он вскочил, то увидел Воронова. Поэт заломил верзиле руки за спину и вел его к свету. Ни редактора, ни ответсекретаря на улице уже не было.
— Пусти, говорят тебе, — шипел верзила, согнувшись от боли.
— Иди, иди, пьяная рожа!
— Пустите его, Вася,—сказал Сергей, подойдя.
Теперь он разглядел грузного подвыпившего детину.
Он был в кепке, из-под которой выбивался седой клок волос. И еще бросался в глаза широкий рот с устало отвисшей нижней губой.
— Тьфу ты, неладная!— произнес с горечью детина,
вглядываясь в Сергея,
— Что такое?
— Обознался. .. Тьфу ты, неладная! Прости, товарищ, ежели можешь... Тут дружок наш на литру взял и смылся. Я и подумал, он, мол, стоит... Ах ты, неладная!..
— За литру, значит, в морду? Скотина ты! — сказал Воронов.
— Да не за литру, а за подлость! — Детина снова повернулся к Сергею: — А ежели простить не можешь, веди в милицию. Заработал— веди.
Сергей снял с себя и отряхнул плащ, потом, почувствовав, что горит левая щека, достал платок и осторож¬но приложил его к лицу. Крови не было.
— Ладно, — сказал он. — Иди домой и ложись спать. Дурной ты человек.
— Мешок с опилками, — вставил Воронов.
— А ты поосторожнее, парень, — обиделся верзила. — Веди в милицию, ежели надо, а личность не трожь.
Сергею надоела эта перепалка.
— Кончили разговор! Отчаливай, друг, — сказал он.
Верзила переступил с ноги на ногу, видимо что-то еще
хотел сказать, потом повернулся и, перейдя дорогу, быстро исчез в темноте.
И тут же у ресторана появились Антон Николаевич и милиционер.
— Вот. .. — начал редактор и замолчал, увидев только Сергея и Васю.
— Что здесь происходит, граждане? — строго кашлянув, спросил милиционер. Лицо у него было круглое.
— Ничего, — буркнул Воронов. — Все в порядке.
— Да тут обознался один. . .Но мы его отпустили,— сказал Сергей, чтобы как-то выручить редактора, поднявшего переполох.
В это время открылась дверь ресторана и вкусно потянуло жареным. Милиционер шмыгнул носом и сказал:
— Разобрались, значит? — Он козырнул редактору: — Честь имею! — И отошел...
Прозвенели тугие пружины, дверь за редактором и его заместителем захлопнулась, и снова стало тихо...
Одноэтажные домики уже спали под черными кронами деревьев. Кончился асфальт. Пошли по дощатому тротуару. Доски поскрипывали, иногда проваливались в образовавшуюся под тротуаром грязь и, как живые, тяжело вздыхали, будто жаловались.
Сергей был недоволен собой и всем происшедшим. Как все случилось? Затянувшийся обед в ресторане, водка, потом эта драка не драка, но весьма неприятная сцена. Лучше бы он у Якова Васильевича играл в шахматы. Или сходил в музей, обрадовал старичка директора, что записки Буренкова нашлись. Впрочем, зачем портить себе и без того испорченное настроение?
— О чем, Вася, думаешь? — спросил Сергей. Воронов усмехнулся.
— Ну?
— Подлецы люди!
— Если ты об этом мужике, то, конечно, его надо
было проучить. Но подлец ли он? Помнишь, как он сказал? «Веди в милицию, ежели надо, а личность не трожь».
Подлец, я думаю, так не скажет.
— Э, все они подлецы!
Сергей рассмеялся:
— Рискованное, Вася, утверждение. — Он посмотрел сбоку на Воронова. Поэт был немного сутуловат. Руки закинуты за спину, голова опущена.— Рискованное,— повторил Сергей.
— Обидно, понимаете? Человек песню придумал — и в то же время..: Не вяжется это, не укладывается в голове!
«В самом деле, легко ли было придумать песню? Как много всего напридумывал человек, а вот того, что он придумал песню, никто не ставит ему в заслугу».
Они остановились, закурили.
— Вася, пошли со мной к доктору. Время еще не
очень позднее. Посидим, почитаешь стихи, если будет настроение. Пойдем?
Сергей осветил спичкой лицо Воронова. Тот виновато улыбнулся.
— Пошел бы с удовольствием, да тетка больна, навестить надо.
— Жаль. Тогда до завтра. — Сергей протянул руку.— В редакции завтра встретимся. Будешь там?
— Буду. Антон Николаевич вроде в командировку" меня хочет послать.
— За очерком?
— За чем придется.
— Принеси завтра стихи. Я покажу их в Москве, у меня есть друзья среди литераторов. Хорошо?
— Принесу.
— Ну, до завтра. Спасибо за компанию.
— Пустяки.
Последний раз скрипнула под ногами Воронова дощатая мостовая. Он сошел на дорогу...
Возле докторского дома стоял ГАЗ-69. Сергею это показалось странным. Прежде чем открыть калитку, он заглянул в окно. И увидел Зою. Она сидела на стуле посреди комнаты — в пыльнике, положив руки на колени и невесело склонив голову.
Сергея новость не особенно встревожила. Он был уверен, что старик отлежится на печи и снова встанет на ноги.
Якову Васильевичу Сергей не посоветовал ехать в Митьковку, все равно никакого нового лечения назначить он не сможет, да к тому же Алексей Петрович лекарств не принимает.
Но доктор, подумав, решил все же ехать. Мало ли что может случиться! Да заодно он побывает в тех же-Чуровичах, у родственников жены.
Все время пока шел разговор, Зойка вопросительно смотрела на Сергея. Впрочем, было заметно, что она хочет не столько расспросить Сергея о том, что с ним произошло, сколько сама, без расспросов, все понять.
Сергей знал, что она терпеливо будет ждать, пока он обо всем расскажет — почему расцарапана щека, почему он так возбужден и почему, наконец, не вернулся, как обещал доктору, в семь вечера...
Яков Васильевич заставил Сергея умыться и смазал ему щеку каким-то лимонником, настоянным на спирту. Когда они остались вдвоем в маленькой комнатке, доктор шепотом спросил:
— Упали или подрались?
Сергей рассмеялся.
— Я просто пьян, Яков Васильевич. И мне очень хорошо, потому что вы чудные люди! . . Поехали, все расскажу дорогой. ..
Сергей дремал, склонив голову на Зойкино плечо. Легкий гул мотора и шипенье шин на мокром асфальте, похожее на звуки закипающего на плите чайника, постепенно ослабли, но не исчезли совсем. Сергей помнил, что он в машине, едет, и в то же время видел себя на берегу Серебрянки вместе с Зоей, в минуту ее первого робкого прикосновения к нему. Сегодня он пережил это незабываемое мгновение вторично. Его подкупило Зойкино спокойствие, ее доверие. Она ни разу, пока они едут, не упрекнула его ни взглядом, ни словом. Ее глаза были наполнены только тревогой за него, а когда все выяснилось, она устало улыбнулась. «Я так и знала, что произошло недоразумение», — молчаливо сказала ему ее улыбка.
Возможно, Сергея излишне растрогала Зойкина чуткость и выдержка. Но и это не случайно. Прежде по каждому пустяку Вера, первая жена, устраивала ему истерики, грозилась «все порвать и отомстить». Сергей по глупости принимал это тогда за проявление горячей любви. Но нет, любовь — это обостренная чуткость, самоотверженная преданность, все, что угодно, только не подозрительность.
Мысль о том, что он прожил долгие годы без Зои, теперь приводила в замешательство--как же это могло случиться?
Однажды в войну, он уже не помнит, где это было, кажется под Киевом, Сергей проехал на машине мимо полуразрушенной церкви. Белые стены — в пробоинах, исцарапаны осколками, как в потеках крови. А вверху, под куполом, — огромный колокол на черной перекладине. От сильного ветра он раскачивался, но не издавал звуков. Он был нем. И потому казался несуразно большим, тяжелым, одиноким.
После каждой нелепой ссоры с Верой Сергей вспоминал этот немой колокол. Впрочем, только ли после ссоры с Верой? Теперь уже всего не вспомнишь!
Он открыл глаза. Приподнялся.
— Спи, — тихо сказала Зоя.
Он пожал ее руку.
— Покурить хочу.
— Ну, кури.
Он пододвинулся к дверце, чуть приоткрыл ее, закурил. Влажная струя воздуха, ворвавшаяся в машину, приятно обдала лицо, пригладила волосы. Щеки уже не горели.
Коля Чиж и рядом с ним Яков Васильевич сидели молча. Сергей увидел освещенный фарами асфальт, бе¬лые столбики по краям дороги. «Дороги мои — стихи мои», — вспомнилась ему вороновская строка.
Яков Васильевич наконец обернулся.
— А-а, вы уже не спите?
— Яков Васильевич, хотите, я вам почитаю стихи? Вернее, перескажу их содержание, как они мне запомнились.
— Пожалуйста, — после небольшой паузы с некоторым удивлением ответил доктор.
Сергей улыбнулся. Он и сам не понимал, почему возникла у него сейчас потребность говорить. Будто он спасался от какой-то тревожной мысли, к которой не хотелось возвращаться.
Он посмотрел на Зойку. Она молчала, о чем-то своем думала.
— Вот, слушайте, — сказал Сергей. И начал, стремясь
подражать Воронову: — Я пишу песни. Веселые и грустные. Когда мне весело — пишу грустные. Когда грустно — веселые. Но грустные песни в наше время меньше
любят. Может, оттого, что люди много пережили. Я сам исполняю с эстрады свои песенки. Счастьем наполняется моя душа, когда я вижу людские улыбки. Недавно я узнал, что меня прозвали «шутом». «Наш шут — отличный малый». Кто посмел так оскорбить поэта?! Я — не шут! Нет, я не шут! Моя профессия — собиратель! Я хожу по дорогам и в свою поэтическую сумку собираю людскую радость и людские страдания. Дороги мои — песий мои! Когда моя сумка наполняется доверху, я прихожу к вам, люди. Я хочу, чтоб один человек знал о другом. Человек превращается в зверя, когда перестает понимать
такого же, как он. Моя поэтическая сумка — это мое
сердце. Оно еще-молодо, но уже устало, очень устало от человеческих страданий. Но я никогда не брошу дело свое! Я не хочу, чтоб люди стали зверями. О, дороги мои — песни мои! . . — Сергей помолчал. — Ну как?
— Чьи это стихи? — спросил Яков Васильевич.
— Понравились, значит?
— Во всяком случае, с мыслью. Чьи они?
— Вам ничего не скажет такое имя: Василий Воронов?
— Наш ропчанин?
— Да.
— Позвольте, Воронов писал очерк о нашей поликлинике.
— Он самый. Пишет очерки, информации и стихи.
— Талантливый малый.
— Стихи его не печатают.
— Грустные?
— Должно быть. Печатают пустяки.
— Жаль.. .
Сергей взглянул на Зойку. Она смотрела сквозь стекло машины в ночь. Думала. О чем-то все время думала.
— А не кажется вам, Яков Васильевич, — снова заговорил Сергей, — что судьба Воронова характерна для многих? Растрачивают силы по пустякам, а главное в себе губят.
Доктор круто повернулся, скрипнуло даже сиденье под ним.
— Нет, Сергей Михайлович. Тут я вынужден вам возразить. Если в человеке есть главное, он в себе этого главного не оставит, отдаст людям. И не будет ждать приглашений. — Он помолчал.
«Очень жалко, что я не нашел этих слов в разговоре с Антоном Николаевичем», — подумал Сергей.
— Я понимаю, — продолжал Яков Васильевич,—
есть стихи, а печатать негде. Но нужно бороться. Добро тоже отстоять можно только борьбой:
Сергей вздохнул:
— Борцов стало меньше, Яков Васильевич.
Доктор снова обернулся.
— Вот я тоже часто думаю — в чем дело? Злых стало больше, борцов меньше. В чем дело? — Он посмотрел
на Зойку. — Зоя, вы согласны с нами? Почему вы молчите?
— Тревожно мне, Яков Васильевич, — тихо отозвалась Зойка.
Все поняли, о чем она сказала. Даже не принимавший участия в разговоре Коля Чиж быстро обернулся и посмотрел на Зойку.
Мысль о том, что Алексей Петрович умрет, казалась Сергею какой-то нереальной. Но все же Зойкина тревога передалась ему, едва они сели в машину. Не Зойку, не Якова Васильевича и Чижа старался Сергей отвлечь, рассказывая о своих похождениях в Ропске, а себя. И когда задремал, обрадовался. А проснувшись, снова не мог молчать, втянул в разговор Якова Васильевича.
И вот Зойка не выдержала первая.
Яков Васильевич быстро взглянул на Сергея и-повернулся лицом к ветровому стеклу газика. Он сидел теперь излишне прямо.
— Должен вам сказать, друзья, что надежда все же есть. Старик перенес весну, неустойчивую погоду. Лето уже легче. Правда, я не ожидал, что, едва поправившись, он снова сляжет. Значит, сердце само уже не справляется. .. Что ж, придется помочь. ..
— Он не принимает лекарств, — сказал Сергей.
— Будем делать уколы. Я это предусмотрел. Словом, надежда есть, друзья. Выше голову.
— А я так думаю: время пришло помирать, ничем человека не вылечишь, — заговорил вдруг Коля Чиж. — И переживать тут особо не приходится, раз время пришло.
— Время надо остановить! — горячо возразила Зойка.
— Как его остановишь? — Чиж был явно удивлен.— Вторую сотню старик скоро разменяет. Заговаривается уж".
— Ничего ты, Чиж, не понимаешь! — Зойкин голос дрожал.
Сергей смотрел на Зойку. При тусклом освещении — горела лишь лампочка на щитке машины — он различил сведенные у переносицы брови.
— Успокойтесь, друзья. Никто пока не помирает,— старался успокоить всех доктор.
— Помрет он, Яков Васильевич... Помрет.
— Ну зачем так, Зоя?
— Помрет!
Но никто Зойку не понимал. Потому что никто, кроме нее, не видел давеча затянутый слезой Ольгин глаз. Злой и беспомощный, переставший искать у людей сочувствия, этот глаз дмотрел из темноты на Зойку всю дорогу, и Зойка чувствовала, что беды не миновать.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.