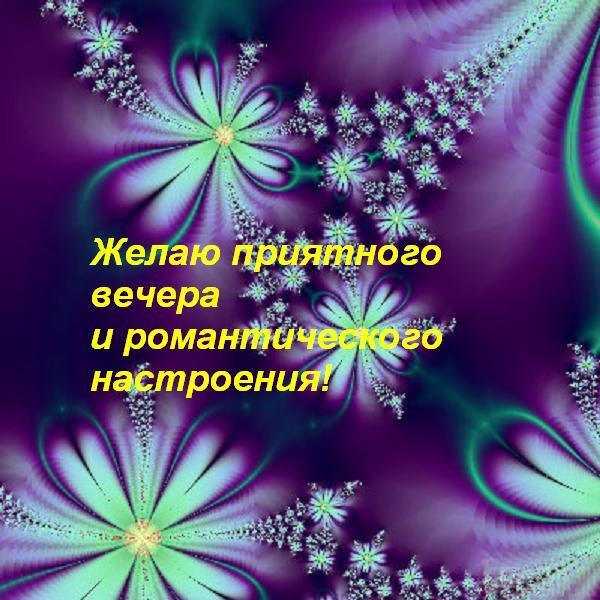Разные причины побуждают людей стремиться к своему прошлому. Одни ищут в нем забвения от повседневных хлопот и забот, другие именно в прошлом видят лучшую пору своей жизни, третьи, вновь и вновь вглядываясь в него, извлекают опыт из былых ошибок и промахов.
Жалею ли я сейчас о том, что моя жизнь сложилась именно так, а не иначе? Конечно, жалею, ведь многие годы оказались истраченными впустую. И теперь, когда пришло истинное понимание смысла и сути бытия, нет уже ни прежних сил, ни прежнего здоровья. Но, с другой стороны, вряд ли моя жизнь могла сложиться иначе, во всяком случае та часть ее, что приходится на детство и юность.
Родился я в религиозной семье и веру в бога воспринял столь же естественно и неизбежно, как своих собственных родителей. Жили мы тогда в деревне Огородники Калинковичского района Гомельской области.
Вскоре началась Отечественная война. Отец ушел на фронт и погиб. Белоруссию оккупировали гитлеровские полчища. Наша деревенская жизнь, и без того не очень-то бурная, совсем притихла. По вечерам опасливо собирались по хатам — кто поговорить о тяжких временах, кто вспомнить родственников и друзей, ушедших на фронт или в лес, к партизанам, а кто-то помолиться господу богу, как им казалось, единственной надежде во всех бедах.
Помню, как примерно с трех лет мать водила меня в молитвенное собрание христиан веры евангельской — пятидесятников. Всего в деревне и на окрестных хуторах их было человек тридцать. Руководила ими сестра моего отца. Иногда в молитвенном собрании появлялся и Петр Журавель — пресвитер калинковичской общины, в которую входили группы верующих подобно нашей, обосновавшиеся в разных деревнях района.
Первой моей книжкой была Библия. По ее иллюстрациям, да еще по разговорам взрослых, у меня и складывались первые представления о мире, о жизни, о добре и зле. Бог казался мне идеальным человеком, одновременно похожим и непохожим на знакомых мне людей. Похожим — чисто внешне, мой разум отказывался представить себе какой-то дух. А непохожим — потому, что он обладал таинственными, недоступными моему пониманию свойствами. Жил бог, по моим понятиям, где-то высоко на небе, все знал, за всем наблюдал и управлял.
В молитвенных собраниях мне было интересно, хотя проповеди я тогда еще не воспринимал. Но от посещения богослужений, от библейских текстов, от разговоров взрослых во мне постепенно крепло чувство защищенности благодаря нашей вере от мирских бед. Позднее, когда я стал взрослеть, это ощущение перешло в уверенность в избранности и своей и своих единоверцев. Может быть, этого и не случилось бы, если бы окружающие относились бы к нашей религиозности с большим пониманием. Но и в деревне и даже в школе среди учителей находились люди, не способные удержаться от насмешки над нами и нашей верой. «Ну как, святые, скоро на небо полетите?» — это было, пожалуй, самой распространенной и безобидной «шуткой».
Были, конечно, и такие, как наш учитель Ананий Петрович. Помню, как, ставя мне пятерку за ответ, он с сожалением и остро запомнившейся грустью сказал: «Жаль только, что эта пятерка тебе на самом деле ни к чему,— ведь приобретаемые знания не помогают тебе разобраться в том, где подлинная истина, а где лишь обманчивое подобие ее...»
«Губишь ты, Леня, свое будущее»,— не раз повторял он. Его слова отзывались во мне сомнением в своей правоте. Но то, что было заложено с детства, то, что выделяло меня и моих единоверцев из «греховного» мира, каждый раз оказывалось сильнее. Да и насмешки делали свое дело. Я все больше и больше убеждался в правоте проповедников, которые говорили, что мы избранный Христом народ и поэтому каждый из нас должен быть готов принять сораспятие — ибо сказано Христом: гонимы будете во имя мое. И конечно же все насмешки над нами и всякую мелкую обиду, неприятности, каких в обыденной жизни хватает у всех, я воспринимал весьма остро — как приметы гонения и вместе со своими единоверцами готовился к сораспятию. Оно представлялось мне торжественным и героическим актом. Поэтому особенно нравились мне в школе рассказы о Зое Космодемьянской, о Павлике Морозове, короче, истории о героической смерти, принятой во имя идеи. Всю же остальную школьную программу я воспринимал так, как объяспили мне в общине: бог сотворил землю и всю Вселенную по своим законам, а ученые постепенно открывают лишь наиболее простые из этих законов,— вот их-то и проходят в школе. А то, что при этом учителя утверждают, что бога нет, так это потому, что высшие, божественные истины доступны только избранным.
Возможно, что учеба в школе как-то и повлияла бы на меня, если бы с раннего детства и мать, и старшие «братья» по вере не внушали мне, что общаться с неверующими грех, что надо быть всегда готовым к тому, что в любой день и час все неверующие могут погибнуть за свои грехи и безбожие, а истинно верующие, то есть мы, христиане веры евангельской, будем выведены, как евреи из Египта, в другие места, где откроется новое государство— без Советской власти и социалистического строя.
Конечно, у меня не было и не могло быть никаких претензий ни к Советской власти, ни к социалистическому строю, за которые отдал жизнь мой отец. Но я уже знал, что наши молитвенные собрания устраиваются тайно, что о них ничего нельзя говорить посторонним, иначе, как утверждали старшие «братья» и «сестры», всех нас подвергнут пыткам за нашу веру и отправят в холодную и страшную Сибирь. Поэтому нет ничего удивительного, что я с опаской относился не только ко всему, что хоть в какой-то мере олицетворяло собой официальную власть, но и ко всем неверующим вообще, как к исчадиям греха, уже осужденным на гибель. И конечно же «исхода» в благословенные земли ждал, как осуществления самой заветной мечты.
Кстати, верил и ждал этого со дня на день не только я — ребенок. Хорошо помню, как осенью 1949 года, придя с молитвенного собрания, мать сказала, что озимую рожь сеять не будем, так как до весны бог обещал вывести свой народ в обетованную землю...
Можете представить, с каким нетерпением ждал этого чуда я, девятилетний парнишка, как истово и горячо молился, как подсчитывал, сколько месяцев, недель, дней осталось до начала благословенной жизни. Да и в молитвенных собраниях накал проповедей и молитв возрастал день ото дня, верующие все более отрешенно относились к своим земным делам и все более сожалеюще и осуждающе поглядывали на своих неверующих соседей. Ведь те еще чему-то радовались, еще суетились в своей греховной жизни, но печать божия уже незримо стояла на каждом из них и страшная погибель ожидала их со дня на день, в тот час, когда они и не ждали ее и не мыслили о ней.
Конечно, точно так же относился к неверующим и я. Это отношение на долгие годы осело в моем сознании устойчивым стереотипом, но в ту пору кое-что чисто по-детски еще пробивалось сквозь костенеющий панцирь активного неприятия всего «безбожного». Помню, как мне жалко было моих учителей — Анания Петровича Бондаря и Александру Ивановну Галай, моих школьных друзей Федю Пугача и Митю Божко. Они были хорошими людьми, и вот им тоже предстояло погибнуть вместе со всеми безбожниками.
Я даже поделился своими размышлениями с одним из старших «братьев», но тот ответил, что все неверующие имеют «инаго духа» — духа лжи и нечестия и что этот дух через тех, кто кажется мне хорошим человеком, хочет погубить мою душу. «Это Сатана, сказал мне старший «брат», принимает образ хорошего человека, а внутри этот человек полон всякой неправды». И привел выдержку из 139-го псалма Давида: «Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея; яд аспида под устами их». И добавил, что Иаков в своем послании говорит: «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от отца светов...» Таким образом, закончил старший «брат», доброта неверующего — это лишь приманка Сатаны, охотящегося за праведными душами.
Я не мог не поверить взрослому и гораздо более опытному единоверцу. Но поверив... в душе не согласился с ним, что под языком моих любимых учителей и школьных друзей «яд аспида». Наоборот, я решил, что хотя они и «сатанинского духа», но благодаря своим душевным качествам постепенно приближаются к богу. И будет очень жаль, если их постигнет участь остальных неверующих. Я даже попытался исправить эту явную, на мой взгляд, несправедливость. Конечно, к учителям с таким разговором я подойти не осмелился, но своих друзей изо всех сил старался обратить в веру. Насколько я понимаю, это была моя первая, неосознанная, но искренняя попытка миссионерства.
Приближалась весна и вместе с нею наш «исход в обетованную землю».
Верующие ожидали его уже со дня на день, каждый вечер до глубокой ночи проводили в молитвах, но, чем более неистовыми и страстными становились их молитвы, тем более сдержанно вели себя наши проповедники. И вот однажды, уже весной, они объявили, что надо сеять рожь, так как велико долготерпение всевышнего к народу своему избранному, в сердце своем еще привязанному к земному богатству и потому не созревшему еще для «земли обетованной»! Сообщение это вызвало у моих единоверцев и разочарование, и раскаяние в разных мелких прегрешениях, и новый приступ неприязни к окружающей жизни, с которой они совсем уж было распрощались. Лично я после этого случая еще больше ограничил свое общение с неверующими, чтобы следующий раз наверняка остаться в числе «избранного христова народа».
Все свое свободное время я проводил в обществе детей наших единоверцев. Мы разучивали религиозные гимны и стихи, которые потом пели или декламировали перед взрослыми на призывных собраниях. Старшие «братья» и «сестры» хвалили нас за усердие, за то, что помним и чтим Христа распятого, и для нас эти похвалы были приятнее и значительнее, чем школьные пятерки.
В ту пору я уже знал от матери, от взрослых единоверцев, что наше учение — единственное истинное учение Христа, что есть и другие верующие, например баптисты, православные, но все они либо неправильно понимают учение Христа, либо еще не достигли столь глубокого его понимания, как мы — христиане веры евангельской, что самое убедительное свидетельство нашей избранности — обладание святыми дарами — иноговорения, пророчества и чудотворения. И я почти наизусть помнил вторую главу из «Деяний апостолов», особенно начало ее, которым проповедники обосновывали истинность нашей веры: «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все духа святаго, и начали говорить на иных языках, как дух давал им провещевать».
Цитируя эти строки, проповедники всегда добавляли, что сошествие духа святого было предсказано Христом в Евангелии от Марка в главе 16: «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Особенно часто в проповедях о дарах духовных проповедники ссылались на первое послание апостола Павла к Коринфянам, на 12—14 главы. Но, как я узнал позднее, выбирали из этих глав только отдельные, всегда одни и те же места. Дело в том, что многие высказывания апостола Павла можно повернуть против иноговорения, что и делали в диспутах с пятидесятниками приверженцы других христианских направлений. Кстати, это одна из причин того, что многие общины свели в своей практике иноговорения к минимуму.
Но тогда я еще не знал о критике иноговорений и о ее аргументации и слова старших «братьев» воспринимал как абсолютную истину.
Окончив восьмой класс, я уехал в Донецк, где у нас были родственники, и поступил в ремесленное училище. Я знал, что там большая община наших единоверцев, и не сомневался, что братья по вере помогут мне на первых порах. Так оно и оказалось. В общине меня приняли, как в родной семье, включили в молодежную группу. Чувство благодарности к донецким единоверцам еще больше укрепило мою религиозность. Особенно интересовало меня, как решается в христианстве проблема любви Христа. Я делал выписки из Нового завета, советовался со старшими «братьями», интересовался богословской литературой на эту тему; мое увлечение всячески поощрялось. Когда мне исполнилось восемнадцать, вместе с целой группой молодежи я принял крещение в пруду неподалеку от поселка Буденновка.
Вскоре я был крещен «духом святым», «усыновлен богом» и вошел в число «жителей небесного города — Нового Иерусалима». Вместе с другими со слезами на глазах я пел: «...здесь на земле погибнет все, а там наследие мое, а там наследие мое, хочу домой к Иисусу».
В ремесленном училище на мою религиозность никто не обращал внимания. Правда, и я своей верой не бравировал, но и не считал нужным таить ее. Просто, насколько я теперь понимаю, наши педагоги считали, что учеба — это одно, а мои взгляды —это совсем другое.
Все свободное время мы, молодежь общины, посвящали изучению Библии. Каждый вечер мы ехали куда-нибудь в окрестности Донецка, в соседние села или поселки — к своим единоверцам. Нас всегда встречали как дорогих гостей. Начинались оживленные беседы, пение. На «огонек» заходили соседи и родственники хозяев, местная молодежь. Песни обычно вызывали интерес. «Что это вы за песни поете? Мы таких не знаем»,— говорили нам. «А это мы Христа проповедуем». Заходил разговор о нашей вере. Насколько я помню, богословские проблемы и высокие материи мало интересовали наших собеседников. Смысл их был обычно сугубо практическим.
А что дает ваша вера? — чаще всего спрашивали нас. И как ни были мы молоды, но уже прекрасно понимали, кому и как надо отвечать. Девушке мы говорили, что если она примет крещение и выйдет замуж за «брата» по вере, то муж никогда не изменит ей и не бросит ее. Юношам говорили то же самое о наших девушках. Но, кроме того, предварительно выяснив, чем он увлекается, предлагали использовать его способности на благо общины. Если он увлекался пением — ему советовали вступить в наш молодежный хор, если он играл на каком-нибудь инструменте — рекомендовали посещать спевки хора, если сочинял музыку или стихи — выступить с ними и т. д. Пожилому человеку мы обещали, что не только верующие дети, но и «братья» и «сестры» по вере никогда не оставят его в беде, будут с любовью ухаживать даже при самой тяжелой и длительной болезни, в любую минуту поддержат его и духовно и материально.
Мы понимали, что для этих людей, никогда вплотную не сталкивавшихся с религией и по своему развитию еще не способных воспринимать тонкости нашего вероучения, в первую очередь важна именно практическая, житейская разница между нашей верой и их безверием. И если этой практической разницы они не уловят, то сочтут нашу веру просто чудачеством. Привыкнув в своей повседневной жизни руководствоваться исключительно реальным смыслом любого шага, любого поступка, любого явления, они и религию мерили той же мерой.
Сейчас я вспоминаю эти поездки с чувством неловкости за свой былой пыл, за ту горячность, с которой отстаивал преимущества религиозной морали и праведность жизни верующих. За долгие годы проповеднической деятельности и руководства верующими я убедился, что религиозная мораль не только не способна удержать человека от недостойных поступков, но зачастую еще и оправдывает их. Немало доказательств тому хранит моя память, но это уже память зрелого, прожившего сложную жизнь человека, а не пылкого, восторженного юноши, считающего лишь себя и своих единоверцев обладателями истины, причем истины окончательной. Конечно, многого я тогда еще не знал и не мог знать, но даже те факты из жизни моих единоверцев, которые становились известны мне и которые способны были заставить задуматься зрелого человека, я либо просто игнорировал, либо истолковывал в удобном для моих взглядов свете.
Никакого серьезного отпора во время таких миссионерских поездок мы не встречали. Бывало, что с нами не соглашались, спорили. Однако людям, даже обладавшим жизненным опытом, но не искушенным ни в предмете спора, ни в приемах полемики, трудно было что-либо противопоставить нашим аргументам, давно уже отточенным в десятках подобных споров. Зато некоторые заинтересовывались нашей верой, и с ними начинали встречаться старшие «братья» и «сестры», имевшие уже опыт обращения в веру «заблудших душ».
Начав проповедовать, я стал больше приобщаться к «мирской» литературе, искусству, регулярно читал газеты и слушал радио. Я знал, что вообще-то это грех, но грех, рассуждал я, для тех, кто не способен отделить зерна от мякины. Для меня же, искавшего лишь аргументы и факты для проповеди слова божьего, греха в этом не было, ибо сказано: «Все мне дозволительно, но не все полезно». А то, что не могло быть полезно для проповедей, для собственных размышлений над сущностью веры, я отбрасывал от себя легко, как мякину.
«Испытывайте все, держитесь хорошего»,— сказано в Библии. Помню, как впервые, в семнадцать лет, пошел я в кино. Фильм мне очень понравился, но весь сеанс меня терзала одна и та же леденящая мысль: а что, если, пока я здесь сижу, уже началось второе пришествие и все мои единоверцы уже в земле обетованной? Я смотрел кино и про себя молился, чтобы оно скорее кончилось— так горячо верил я и в библейские истины, и в то, что говорили старшие «братья» и «сестры».
Я с детства увлекался рыбалкой и всегда мечтал жить на берегу какой-нибудь крупной реки. И, получив специальность слесаря-сборщика металлоконструкций, переехал в Запорожье. Были и другие соображения, приведшие меня именно в этот город. Дело в том, что незадолго до моего приезда руководителей запорожской пятидесятнической общины судили за антисоветскую деятельность. Узнав о моем желании переехать в другой город, благовестник Дмитрий Зарубин предложил мне остановить свой выбор именно на Запорожье, чтобы укрепить там руководство общиной. Он же написал мне рекомендательное письмо к местным единоверцам.
Приехав в Запорожье, я прямо с вокзала отправился по одному из адресов, которыми меня снабдил Зарубин.
Встретили меня хорошо, тут же устроили жить у одного из «братьев». Вскоре я поступил работать на завод «Днепроспецсталь».
В Запорожье, как ив Донецке, я стал активно проповедовать. Занимался и миссионерской деятельностью, и мне предложили возглавить группу верующих в поселке Зеленый Яр. У нас это называлось — руководящий. Руководящие были как бы наместниками пресвитера и его будущими преемниками. Если учесть, что в то время мне не исполнилось и двадцати лет, то можно понять, какая это была большая честь и какие надежды возлагали на меня старшие «братья».
И вот я впервые самостоятельно веду молитвенное собрание! Конечно, я волновался, но все прошло хорошо, все остались довольны.
Собирались мы нелегально. Я был молод, здоров, молился и проповедовал самозабвенно, не щадя сил. И верующие ценили меня за проповеди и за страстные молитвы.
И в Донецке, и в Запорожье были верующие и других христианских направлений: баптисты, евангелисты, адвентисты... Между руководителями разных общин шла тихая, неприметная для непосвященных, но яростная борьба за души верующих. Особенно запомнились мне диспуты с баптистами. И наши проповедники и баптистские произносили поочередно яркие проповеди в защиту истинности и избранности своей веры, обличая заблуждения противника. Баптисты доказывали, что наше крещение «духом святым», иноговорения и пророчества-заблуждения, что они не от бога, а от неправильного понимания библейских текстов, оттого, что, видя нашу «неистинность», господь не просветил нас высшим пониманием своего учения. Мы же, наоборот, превозносили высший смысл и богооткровенность святых даров и убеждали баптистов, что именно обладание ими является высшей ступенью приближения к богу, что баптисты, не обладая «святыми дарами», находятся еще на начальной стадии познания бога.
Таких диспутов было немало и в Донецке, и в Запорожье, но лично я не знаю ни единого случая, когда кто-нибудь кого-нибудь переубедил. И никому из нас в ту пору даже не приходила в голову мысль, что, может быть, не правы и мы, и баптисты, и все остальные, считающие именно свою веру единственно истинной.
Зато среди православных и неверующих наше миссионерство время от времени приносило свои плоды.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.