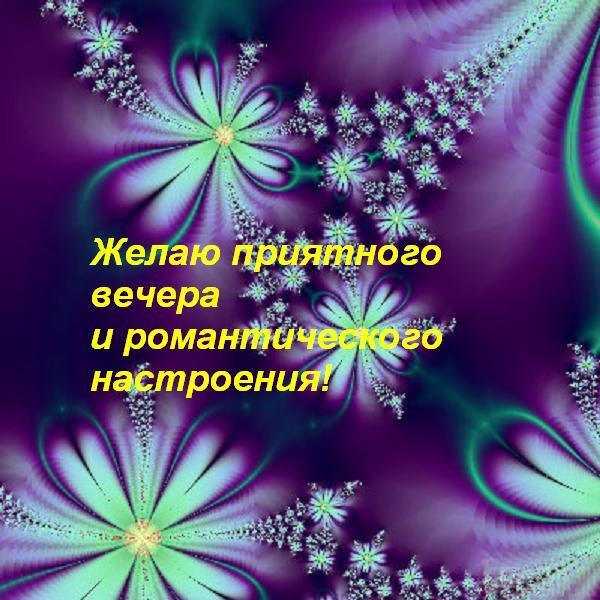Торфяник
Болото. Скажешь — и одному припомнится зыбучая трясина, провалы с застойной торфяной жижей, другому — зелень сырых лужаек с невысокими елками, с обломками гнилых берез, иному - неоглядная камышевая топь.
Болото... Страна лягушек и осок, невнятных шорохов и чистых птичьих голосов... Я расскажу вам про эту страну. Я бывал там часто и полюбил ее.
Болото,где живут птицы начиналось сразу после загородных улиц.
Последние кривые домишки смотрели прямо на него. Это был заброшенный торфяник. Разрабатывался он лет тридцать назад и с тех пор зарастал, год от году становился глуше.
В залитых дегтярной водой разрезах дремуче рос тростник и рогоз, лягушатник пустил по воде свои плавающие сети. По сухим горбоватым релкам густо поднимался осинник, березы и ольхи, кое-где оттененные кривыми сосенками с яркой и светлой болотной хвоей.
Глушь и дичь на таких релках. Черемуха, ива, хмель, вьюнки и неизвестно почему растущая тут высокая крапива образуют сплошную цепкую зеленую ткань, через которую невозможно пройти иначе, как прорываясь и продираясь с живым треском, хрустом и шелестом.
Через десяток метров, покрытый ссадинами от сухих ветвей, ошпаренный крапивой, изъеденный клубящимся полчищем голодных комаров, начинаешь отступать, и путь назад так же тернист и труден, как продвижение вперед.
Зато в таких вот дремучих углах водятся не очень известные уральцам соловьи, и повидать их, пожалуй, стоит.
Соловей — птица угрюмая, живет скрытно, петь любит по немым ночам, на белой заре. Константинго, знать, сложилось ходячее мнение: «Соловьи у нас не живут, холодно им. Вот на Украине, там их как воробьев... по вишням гнездятся десятками».
А гнездятся соловьи на земле.
Есть-на торфяных релках широченные сухие кусты — дромы. Получаются они оттого, что хмель и вьюнки душат живой куст. Он засыхает па корню.
Дром — самое соловьиное место. Соловей в таком кусте шмыгает, как мышь — нескоро его. заметишь — и чувствует себя в полной безопасности. Часто подпускает он наблюдателя метра на два, и неизвестно пока, кто удивляется больше — человек доверчивости птицы или соловей терпению человека, облепленного роем комаров.
Не шевелишься. Обрадованные комары поют и зудят, щекотно ощупывают шею, лоб и виски, примериваясь, куда бы получше вколоть хоботок, а птица сидит тихо, в упор глядя круглыми черными глазами. В них нет страха — одно добродушное любопытство и словно усмешка.
Посидев молча, соловей начинает поводить хвостом вверх и вниз, вкрадчиво приговаривая: «карр... каррр... каррр...»
«Ну, что, мол, ты ждешь? Спеть, что ли?»
Замрешь — и птичка вдруг начнет выкрикивать свою звучную, щелкающую, рокочущую песню. Трепещет ее серое горлышко, вибрирует язычок, вздрагивает рыжий хвост, глаза же смотрят загадочно и напряженно: «Что? Каково? » — чудится вопрос.
Бьет в уши, зачаровывает до дрожи удивительный звучный голос... Но один неосторожный шаг, приближающий на недопустимое по соловьиному мнению расстояние, и птичка смолкает, легко спрыгивает в чащу ломких ветвей, облепленных серебряными лишайниками, и растворяется там. Редко промелькнет ее охристая спинка, да меланхолическое «фи... фи...» говорит, что соловей поблизости, ходит, кормится, ворошит листву...
Здесь я увлекся — ведь рассказ-то идет о старом торфянике. Но, посудите сами, какой же торфяник без соловьев?
Особенно тянуло меня сюда по весне, не то чтобы соловьи привлекали, а просто для каждого времени года были у меня любимые места. Весной — болота, летом — река в лугах, осенью — лес, зимой же все помаленьку. .
Уже с ноября торфяник мертвенно пуст, завален безмерными снегами, ни звука, ни движения. Разве что стайка снегирей пролетит да вылезет из камыша удивительная птичка — белая лазоревка с голубыми крыльями и синими полосками через глаз. Но лазоревки редки.
И вот бредешь километр за километром по сыпучему снегу, слушаешь снеговую тишину, а сухой шелест белесых тростников .лишь дополняет впечатление омертвелости.
Не так хорошо болото и в летнее время. В однообразной дремучей зелени редок есть что-то удручающее. Птицы не поют, их не видишь, хотя чувствуешь, что кусты полны осторожного птичьего перепархивания и какой-то скрытой, неведомой глазу жизни.
Осенью пролетные стаи держатся ближе к полям, опушкам и перелескам и тянутся над торфяником высоко.
Зато весной не бывает места лучше заброшенного торфяника.
Я приходил сюда, когда снег начинал сереть и льдистые корочки-блины хрупко ломались под ногами. Кончался март. Теплело. И робкое дыхание новой жизни уже пробивалось там и сям. На дупловатых гнилых ивах ползали маленькие расписные дятлы со спинкой, словно вырезанной из бересты. Сухие камыши, обласканные солнцем, золотились тепло и весело. Уже пахло снеговой водой, и первые проталины просовывались по буграм. Они появлялись всегда неожиданно. День-два назад лежала плотно метровая голица сырого снега. Казалось, таять ему и таять, а вот «хруп» — нога ступила в сырую мякоть земли. И как же хорошо почувствовать эту землю после месяцев снежной зимы. Наверное, матросы Колумба вот так же радостно вздыхали, увидев желанные берега: «Земля! Наконец-то земля!»
В ясные апрельские полдни, когда все разом темнело, будто от первого загара, весь торфяник дрожал и нереливался в блеске, в сиянии бесчисленных ручьев. Как ослепительно играло, дробилось в них вешнее солнышко! Как живо и весело голубела вода. И ступая по этим расплесканным небесам, по облакам, плывущим подо мною, и перешагивая через тысячи тысяч солнц, я готов был кричать:
— Где вы, художники? Где же вы, импрессионисты?! Почему не пишете такое пронзительно лазоревое небо, сизый снег, голубые ручьи, синий пруд за краем торфяника и теплый кобальт лесных увалов, далеких и неясных.
А по обсохшим буграм уж перелетают жаворону Их ие вдруг замечаешь — так сливается перо с блеклым и ржавым сухотравьем.
Идешь, идешь, пока не услышишь мелодично-тревожное: «ти-тюрли...»
Жаворонок выбежал на кочку. Стоит, удивленно подняв треугольный хохолок, будто воин в шлеме на древнем кургане. Вижу его крапчатую грудку, его дикие черные глаза и думаю, что такие вот невзрачные птички видели орды печенегов и половцев, это они звенели над головами русских ратников, идущих навстречу неведомому врагу. Жаворонки... Серые жаворонки! Без вас не проходит ни одна весна, без вашего голоса над полями нет русского лета, и даже через столетия, когда люди забудут смысл
слова «война», когда помолодевшая земля невиданно расцветет, над ней все так же будут петь жаворонки, высоко в небе, на теплом ветру.
Без птиц торфяник показался бы голубой пустыней. Но их голоса сплетаются с говором ручьев, с тихим звоном воды, им радуешься, как вестникам солнца и весны.
Вот маленькие реполовы с красными печатками на атласных грудках. Они присели отдыхать на провода. И грустно-радостно льются их песенки. В них найдешь тихую печаль пасмурного дня, блеск ручьев, холодный ветер, северные елки, любовь и тоску — да мало ли что еще...
Не знаю, отчего композиторы не пишут музыку с птичьих песен, почему не слушают песенки птиц так же торжественно-благоговейно.
Вместе с жаворонками на сухих буграх появились самые простенькие весенние птицы — кгышевые овсянки.
Они похожи на воробьев. Неопытный человек как раз спутает. Только голова у них в черном капоре, да белым ошейничком щеголяют самцы. Овсянки эти смирные. Идешь по гребню бугра, а птичка копошится на тощем весеннем дерне, выбирает мельчайшие семена и, жалко поглядывая, тихонечко тянет: «тсии... тсии... и... и».
Мне думается, она говорит:
— Проходите, пожалуйста... Не спугивайте меня. Я бы слетела, уступила дорогу, да уж очень есть-то хочется... Проходите, пожалуйста...
Когда много бродишь по лесам и жизнь твоя идет вместе с пролетными стаями, березами и полевыми ветрами, начинаешь помаленьку учиться тому удивительному языку, простому и мудрому, каким говорят птицы, лопочут листья, шумит вода, скулит ветер. Вот так же приезжает человек за границу, кругом все незнакомое, непривычное: дома, улицы, люди, одежда и речь. Кажется, никогда не привыкнет, а поживет, послушает, глядишь, понимать начал и сам заговорил.
В лесу и в поле учишься по складам, многократно повторяя. Зато уж на всю жизнь запомнишь, если говорят сороки: «кук, крэк, крэк» — значит, у гнезда болтают, так себе, обсуждают, чей хвост длиннее, а если стрекочут: «ка-ра-га-ча-ча»—значит, человек где-то поблизости идет. Ранней весной все на болоте голо, просто, убого — как проста и убога всякая рань вообще. Наверное, земля наша на заре времен была такой же простой и скудной.
Одни вербы стоят в канавах, как невесты, готовые к венцу. Дышит холодом сибирский ветерок, безжизненна желтая снеговая вода, но во всей этой наготе, голости, неустроенности чувствуется что-то юное, чистое, робкое, еще не начавшее формироваться, но уже готовое к чему-то высокому и светлому. Так в угловатой нескладности девочки-подростка вдруг замечаешь черты удивительной женской красоты...
...Дни бегут. И неуловимо меняется. облик торфяника. Уже не так безотрадно смотрят голызины ветвей в полдневную синеву, а серая щетина ивняков вдали чуть зеленеет размытой акварелью. Золотыми веснушками мать-и-мачехи осыпаны торфяные бугры. Цветет калужница вдоль канав, зелеными ежами сделались кочки. Словно сбросила Весна голубую хламиду, осталась веселая, в зеленом сарафане.
Скворцы всюду. Они свистят по ветлам, бормочут на остожъях, скрипят но телеграфным столбам, мяукают и взвизгивают на дальних скворечнях, в такт прихлопывая опущенными крыльями, словно перед тем, как пуститься в пляс. Они пасутся в осоке, глянцевито чернея, бродят между кочек. Они шуршат в тростнике и проносятся над головой острокрылыми черными стрелами.
Бекасиным блеяньем туго гудит вышина. Чибисы с унылым изгибом странных крыльев вьются над неприступными кочками. На все голоса чисто и мелодично звенит пролетная куличья станица. Плаксиво-призывно канючит коршун: «иррр-а-а-а... иррр-ра-а-а-а» Кажется, что потерял он какую-то Иру и вот летает, кружит, ищет — не может найти.
Две беленькие-трясогузки с тревожным чиликаньем сопровождают хищника. Вьются вокруг, залетают вперед, бесстрашно шмыгают у самого клюва. А коршун, знать, не хочет их ловить, махнет раз-другой изогнутыми крыльями, плывет дальше, покрикивая свою Иру.
А я задумываюсь, может быть, правда у коршуна есть такая подружка. Почему бы не зваться ей Ирой. Имя самое модное. А то, что все коршуны кричат одинаково,— сущий пустяк. Ведь даже мы являемся жертвами моды, и уж если пойдут у нас все Светланы и Наташи — так нет им ни числа, ни края.
На болотную жизнь смотреть надо не торопясь, вдумчиво и пристально. Лучше всего медленно идти, выбирая дорогу посуше, или лежать на теплом дерне, следя за плывущими облаками. Тогда словно чувствуешь движение земли, ощущаешь, как она, огромная, медленно и весомо поворачивается к солнцу и вместе с него поворачиваешься ты сам.
Сладко греет солнышко, пряным дурманом кадит разомлевший багульник, и сыро пахнет оттаявшей землей и высыпками молодой травы.
А на сухие полянки среди болота слетаются гривастые кулички-турухтаны. Сперва петушки стоят друг перед другом нахохленными турманами, в глубоком раздумье. Но солнце греет, весна пьянит, кровь шибает в голову, и, раскинув дыбом цветные воротнички, они налетают друг на друга — только перо трещит. Рыжие кроткие самки смотрят на турнир, с женским любопытством вытягивая шеи.
Звенят жаворонки, ноют коноплянки, в воде что-то булькает, всплескивает, возится. Смотришь — толчками плывет зеленая лягушка. Прекрасный стильный брасс.
Коричневый гладкий плавунец с разлету щелкнул в воду, кружит по поверхности, не может нырнуть в глубину — слишком пересох за долгую зиму. Сухие водомерки конькобежцами скользят по голубому зеркалу воды, любуются своими длинными носами. Трудолюбивый водяной паук вяжет в травах свой серебряный подводный купол. А там, у поверхности, оранжевый, синий, пятнистый стоит тритон. Едва шевелит драконовым хвостом, поднял фиолетовый зубчатый гребень, холодные глаза, как две маленькие луны. Удивительное сочетание прекрасного и отвратительного в одном и том же.
Еще неделя — и загремят над болотом лягушачьи хоры, «залают» матерые голубые квакуны. И верится, послушав вечером весь этот гам и стон, что есть такая лягушачья страна и живет там волшебная лягушка-царевна.
Весной на торфянике надо бывать часто. Не то проглядишь, как вспыхивают и гаснут короткие весенние чудеса.
Они возникают всегда неожиданно. Сегодня — нет, завтра— на тебе! Приходишь сегодня и видишь, как у берега пруда кружат стаи больших морских чаек. Рань и холод. Стылым розовым диском приподнялось солнце. И птицы вьются в красном свете над лиловыми волнами, тоже розовые, как дети самой зари. Назавтра уж иная заря красит тучи, иные голоса звучат в вышине.
Идешь зеленеющими ивняками — и вдруг выскочит на таловую макушку встрепанная птичка-голубогрудка. Раскрыв хвостик веером, зазвенит, как тонкая гитарная струна. Варакушка. Глядишь на нее, бормочущую на ледяной уральской заре, и удивительным кажется, зачем явилась она сюда, за тридевять земель, из Южной Африки. В пути стерегли ее ястребы и соколы, снежный ветер сбивал с пути, и земля, закрытая снегом, была голодна и неласкова, а она летела и летела прямо на эту релку, к таловому кустику, под которым вывелась из пестрого яичка, летела-несла немудрую песню северному солнышку дорогой родины...
А вот и май! В зеленом ситце идет весна. И торфяник оделся. И уже цветет по топям ядовитый белокрыльник, и белая кувшинка — нимфа раскинула по чистой воде свои листья-ладошки. Ее волшебные цветы раскрываются на заре, когда все так кротко, свежо и непорочно-чисто. В ней есть что-то девичье, и сами кувшинки, как нижние юбки девушки-чистюли. Они невиданно хороши, когда солнышко едва улыбается спросонок за ивняками и веселая золотая пыль сеется сквозь вершины кустов на розовую воду, на лицо и траву. Соловьи аукают на все голоса. Их свисты словно дробятся по глади воды, отражаются ело.
— Вит-тго, вид-дел? — громко неожиданно спрашивает
с березки красная птичка. Й пригнувшись, ворочая головкой, ждет ответа.
— Видел, видел, — говорю ей.— У нас во дворе живет...
Озорник-парнишка.
Чечевица же, не удовлетворяясь ответом, спрашивает снова, пока ей не надоест. А я как зачарованный смотрю на ее карминовый хохолок, малиновую грудь и густо-красную спинку. Брюшко птицы сияет белизной. Но разве вся весенняя красота — в этой пичуге из Индии, одетой в кардинальскую мантию? А стволы берез? А вода? А желтые пуховики на ивах? А слабенькие незабудки, словно детские глаза весны? А великолепные птички дубровники с кофейной головкой и медовой золотистой грудкой? Когда я поймал одну такую и показал изумленным любителям, многие отказывались верить, что живет она на старом торфянике.
— Врешь, брат, врешь... Из Москвы, подика, а то еще подальше откуда привез,— было единодушное суждение.
Целый день, не зная усталости, бродишь и бродишь но узеньким релкам.
Кто только не встретится тебе. То перебежит дорогу рыженький узкий горностай с тощим линялым хвостишком. То серая гадюка приподнимет из травы треугольную свирепую голову, засипит, поплевываясь черным язычком, то вылезет на пенек крошечная, как наперсток, землеройка-малютка, то попадется на кочке дупелиное гнездо с грушевидными крапчатыми яйцами. И для тебя поют соловьи, сверчками стрекочут неугомонные камышевки, тебе квакают лягушки, скрипят коростельки и улыбаются бледные болотные цветы.
Вечереет. Едва волочишь усталые ноги. Уж равнодушен ты к земной красоте, и ничего Не хочется, кроме как 'поесть и спать. А пробежит день-другой, без следа испарится усталость. И, как прежде, потянет туда, к лягушкам, травам и птицам, где лес твой, и небо твое, и солнце, и птицы, и жизнь.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.