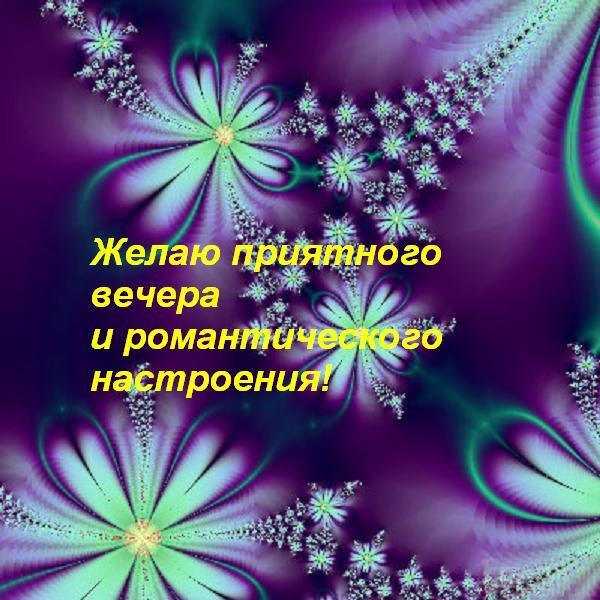Иногда.так хочется поблагодарить дроздов птиц за то,что они есть и что мы можем так мощно наслаждаться их обществом,что прямо .если ты видишь черного дрозда,то дух захватывает настолько сильно и одновременно за это птицы какая-то мощная гордость берет,что ты еще больше поражаешься и видишь сразу,Дрозд настолько прекрасен,что ты влюбляешься в эту птицу сразу и на всю жизнь, сейчас мы с вами прочитаем интересный рассказ о дроздах, которые дрозды нам просто сами расскажут своими повадками,что им нужно от человека,а человеку от Дроза,итак идем в большое лесное путешествие исследовать Дрозда.
Красивое имя у птицы. Помните, в «Записках охотника»? «Звучный напев черного дрозда внезапно раздавался вслед за переливчатым криком иволги,..»
Такая удивительная птица как черный дрозд-это всегда потрясающе красивое зрелище
Всего одно упоминание — и вот он, среднерусский лес с громадами-дубами, тусклым листом орешника, пахучей калиной и белыми грибами под свесом еловых ветвей.
На Урале черные дрозды не водятся. Есть они где-то под Пермью, да и там из редкости редкость. А мне очень хотелось подержать такую птицу. Ведь -когда за свою жизнь повидаешь и соловьев, и зарянок, и жаворонков, тянет к чему-то необыкновенному. Я мечтал о черных
дроздах да по воскресеньям на птичьем рынке — своеобразном клубе птицеловов-любителей — слушал о. них , разные басни.
Больше всех рассказывал о дроздах некто Козленко, известный у птичников под названием «артист». Не знаю: был ли он артистом, но больше был известен как несусветный лгун. Двух слов Козленко не мог произнести, чтобы одного не приврать.
— Дрозды?— мягко, обвораживающе говорил он, глядя на собеседника благородными глазами испанского вельможи.— Так я ж их тысячи передержал. У Пятигорске у нас их — у каждом кусту.
— А что ж сюда не привезли?
— Та некогда ж было. Днем репетиции. Вечером спектакли.
— Ну-у! А выходной?
— Так я ж и у выходной с утра до ночи в театре. Пятьдесят две роли за сезон! Вы понимаете? Мне ж заслуженного хотели дать. Весь театр провожал, плакал...
— Ну а дрозды?
— Та я ж их тысячи... Гнездо у него на ели, на кипарисе то есть... Высако, высако. Шапка валится. Вижу, туда они залетают, а где ж достать? Носят вот таких червей, да вот, вот таких бабочек,— на метр разводил руки артист.
Другой «старый птицелов», самоуверенный портной Парамонов, говорил, важно попыхивая сигаретой из янтарного мундштучка:
— Я их в Саратове помногу ловил. Дикая птица... Не выдержать ее. Петь громко не будет. Под свой нос вполголоса пропевает.
— Вот в июне на Кавказ собираюсь, в Хосту,— говорил я,— может быть, поймаю.
— У Хосту? У Хосту? — удивлялся Козленке.— Та я ж там тысячи раз... Ниччево там нет. Ловить негде — голые горы та колючий кустарник. Неет, дроздов надо у Пятигорске, у Нальчике.
...Такси неслось по извилистому горному шоссе из Адлера в Хосту. Мелькали сияющие солнечные склоны в непролази незнакомой зелени. На поворотах визжали покрышки, то прижимало к дверце, то откидывало в глубь
машины.
Что может быть лучше,чем встретить Дрозда в лесу? Наверное -это просто удивит вас и конечно запомниться надолго!
Таксист торопился. Время — деньги. А на Кавказе особенно. Это я понял с прилета, когда толпа квартиросдате-дей взяла нас в кольцо, прямо в аэровокзале.
— На берегу моря!
— С пансионатом...
— Со всеми удобствами... Пожалуйста к нам...
— Всего два рубля в день...— сыпалось со всех сторон.
Насколько можно было разглядеть в бешеной гонке дорогу, я таращился с любопытством новорожденного. Пальмы. Мостики. Ущелья. Странная голубая зелень эвкалиптов. Дачная белизна домиков. Открыточная красота кипарисов. Все это вместе с горячим воздухом, врывавшимся в окно машины, удивляло и тревожило.
В одном месте поднялась с обочины черная птица. Ясно увидел я черноту пера и желтый клюв.
— Дрозд!—крикнул я сидящей рядом сестре.— Черный дрозд!
Она равнодушно кивнула. Нельзя сказать, чтоб сестра не интересовалась птицами. Интересовалась, конечно... Но если гордо сравнить мой интерес к ним с потоком солнечного света, то заинтересованность сестры была светом лунным, отраженным.
В тот же день, к вечеру, на заросшей круче горы я снова услышал и увидел черного дрозда.
Он сидел на сухой макушке грузинского дуба и меланхолично высвистывал что-то лесное, неведомое. Он брал тоны выше и ниже, спускаясь до басового гуканья, и вдруг точно переводил какой-то регистр, и снова приятная флейта баюкала вечереющий лес.
Мы стояли у подножия горы, слушали и толкали друг друга локтями.
— Завтра же пойду искать гнездо,— храбро сказал я.— Раз он там поет, значит, у него гнездовой участок.
Сестра с сомнением поглядела и промолчала. Она была здесь уже не в первый раз. Мои расспросы и суждения, наверное, надоели ей.
Уже поздно мы вернулись в гостиницу на гранитной набережной мелкой каменистой речонки. С гор дуло холодом. В темных кустах у входа мерцали светляки. Пронзительно свиристела цикада. Не то летучие мыши, не то огромные бабочки-сатурнии проносились на свет нашего окна, ширялись о стекло мягкими крыльями и пропадали. Мы заснули под кваканье, бормотание, лай и гомон здешних лягушек.
На другой день я понял причину скептицизма сестры. Привыкнув к уральскому лесу, я даже представить себе не мог, до чего же непроходимы заросли на Кавказе. Если есть нечто среднее между густым киселем и твердым веществом, то вот кавказская зелень. Едва я сунулся в молодую поросль и начал взбираться по крутизне, миллион мелких колючек впился в мои руки, ноги, одежду, задери живая всякое движение. Ежевичные плети кипятком ошпаривали ладони. Завеса плющей трудно рвалась, дрожа и цепляясь. Плющей было видимо-невидимо! И каких разных: то с треугольными листьями, то с сердцевидными, то ни дать ни взять — березовыми,.. Они въедались в кору деревьев, оплетали ветки, ползли по земле. Я бился в них, точно муха в паутине, с проклятиями прорывался, карабкался, падал и скоро понял, что буду у заветного дуба на середине склона не раньше как через неделю.
Так же медленно, обдираемый колючками, я спустился на дорогу к подножию.
— Ничего,—утешала меня сестра.— Может быть, зайти с другой стороны горы?
Нового дрозда мы увидели бегающим в водосточной канавке подле каменной садовой стены. Это была самка величиной побольше скворца, бурая и рыжегрудая. С видом женщины, обремененной немалой семьей, она хлопотала в канаве, переворачивала камешки и гнилые листья. Вот нашла что-то, схватила и медленно улетела в густой сливовый и черешневый сад за каменную стену.
— Пойдем,— сказал я сестре.— Поищем ее...
— Пойдем, согласилась она, покусывая соломинку.— Но ведь там сады... Вдруг нас...
— А-а... Много ты понимаешь! Здесь же не такие хозяева, которые сад колючей проволокой огораживают, здесь Кавказ, Восток, гостеприимство...
«Приезжайте, генацвале, на-ри-на-ри-на. Выпьем с вами, генацвале, белого вина...»
И я уже взбирался по хорошо уложенной песчаником чистой тропинке за белую чистую стену. Черешни желтели и краснели над нами. Абрикос раскинул свои похожие на иву перистые листья, и алыча, кислая, зеленая, сводящая с ума одним своим недозрелым видом, алыча была повсюду. Глядя на нее, я представлял разжеванный лимон и толченую клюкву.
Дроздов, однако, не было ни видно, ни слышно.
Зато из странного по архитектуре длинного и беленого строения, напоминающего огромную уборную, выглянула старуха в черной шали.
Выглянула, исчезла.
Через секунду атлет-мужчина сине-чернокудлатый с волосами на голой груди и руках пошел навстречу.
— Зачем ходыш? Тэбе на дороге мало места? По садам шалыгаешь? — зачастил он.
— Да вот, дрозды...— не закончил я.
— Я тэбе покажу такой дрозды!
И мы повернули назад.
Может быть, только присутствие женщины спасло меня от большего.
Мы прожили в Хосте полмесяца и все ходили под вечер слушать того отличного певца на высокой горе, на грузинском дубе. Словно поддразнивая нас, он курлыкал, аукал и насвистывал, точно лесной Пан, и сестра говорила знакомым на пляже, что ей на меня жалко смотреть.
Дрозд-Это совершенно уникальная птица,да дрозд всегда интересен человеку и где конечно можно встретить дрозда?
А пляжные знакомые мило улыбались, мило кивали, и во взглядах этих милых людей в плавках было: он же сумасшедший. Да, конечно, сумасшедший. Ведь только тронутый человек может ехать на Кавказ, чтобы лазить по горам за какими-то дроздами, ловить бабочек! Искать жуков! Тратить на всю эту гадость дорогое время отпуска,
вместо того чтоб размеренно отдыхать под тентами на лежаках, жариться на солнце, купаться в море.
— Море — это йод. Море — это здоровье,— убежденно говорил молодой инженер из Москвы. Он вбирал здоровье с утра до ночи, валяясь с книжкой на надувном матраце. Когда море гудело штормом и волны с ворчанием «оро-оро-оро» катились на водоплеск, он ложился в зону прибоя улавливать целебные ионы. И вообще казалось, что здесь все помешались на здоровье, и загорали, и отдыхали до изнеможения. Даже на головные боли жаловались, точно впрямь некуда было деться от этой дышащей зноем и ветром солнечной полосы берега, усыпанного пестрой морской галькой и сплошь заваленной темными и белыми телами в купальниках фантастических расцветок.
На третий день мне ужасно надоело злое южное солнце. Нагретые им до сковородного жара валуны и окатыши обжигали ступни. Непрестанный гул волн, соединенный с шуршанием трущейся гальки, нагонял тоскливое настроение. Поворотившись раз двадцать на дощатом лежаке, разомлелый и рассолоделый, я лез в расплавление блестящую теплую и грязную волну.
Я не влюбился в море. Оно было обычно зеленым, а не синим и тем более не черным. Оно было огромным, но не таким величественным, как представлялось раньше. По нему плавали маленькие катера с трамвайными сиденьями и с пышным названием — теплоходы. Оно больно хлесталось камешками даже в слабый прибой. В нем не было видно ни рыб, ни крабов, ни дельфинов, ни других морских чуд. А знаменитая морская горько-соленая вода была не солонее Ессентуков № 17. Ее можно было пить.
Я подозреваю, что многие люто скучали на пляже, скучали за картами, за разговорами о загаре, за разглядыванием бедер и ножек. Наверное, хорошо чувствовали себя тут только кучки развязных юнцов в мексиканских сомбреро и с замурзанными гитарами через плечо. Они бродили по пляжу, перешагивали через загорающих и бесцеремонно рассаживались возле каждой смазливой девчонки.
— Подумаешь, нашелся критик!— скажут иные.— А
что же делать у моря, как не купаться, как не загорать?
Сдаюсь заранее! Я и не против такого. Кому что нравится... Но почему должно нравиться всем одно и то же?
Вообще, прожив тут пару недель, я вдруг обнаружил, что Кавказ — великолепное место и для всяких тунеядцев, лодырей и лжебольных. И нередко думалось: а вот нашелся бы такой невод, что пропускал бы сквозь ячейки отдыхающих тружеников и задерживал тунеядцев. Ох, какой улов достался бы рыбакам...
— Чем ездить на Кавказ ловить каких-то птичек, вы
бы лучше позагорали как следует. Приедете в свою Сибирь, никто и не поверит, что на море были,— судила жена инженера, коричневая до фиолетового отлива на лопатках. По-видимому, не слишком примерная в школе по географии, она упорно помещала Свердловск в Сибирь и
наивно спрашивала:
— А у вас и трамваи в городе есть?
— Есть.
— А троллейбусы?
— Тоже есть.
— А рестораны? -Да.
— А что, строганину там подают? — более профессионально интересовался инженер.
Мы переглядывались.
— Конечно, подают. Но больше мы любим сырую рыбу живьем,— говорила сестра.
Тогда они смущались и начинали хохотать. Наверное, сестра разделяла их взгляды на пляжный отдых. Иногда, заметив в ее глазах подобие тоски, я горячо убеждал ее пойти загорать. Но тем не менее она верно следовала за мной во всех походах, может быть, из солидарности, может быть, просто по доброте душевной. В конце концов я предложил поискать дроздов в горах за Хостой. И вот по безумной дороге мы взбираемся на гору Ахун. Справа серая каменная стена, слева сосущая душу голубизна, от которой мерзнут ноги. Так почти все время, пока автобус не останавливается у какого-то санатория.
— Ну-у! — говорит бледная спутница, вылезая из машины,— больше не поеду.
Мы шагаем вверх по санаторно-чистым дорожкам мимо розового благоухания, пузатых чешуйчатых пальм, искривленных юкк и прочей показной южности. Справа столовая — белоснежный храм еды. Сквозь окно — салфеточки в кольцах, фужеры, фрукты. Слева — двухэтажные коттеджи.
«Санаторий Минздрава» — красовалось на арке ворот.
Рослый садовник, подстригающий розы, дремуче покосился на нас.
Скоро мы миновали санаторий.
Выше по склону темнел лиственный перелесок. Сырая глинистая дорога ныряла в него. Мы вошли. Теплая сырость была тут. Ноги скользили. От духоты колотилось сердце. И везде перелетали, чакали в сумеречных кустах черные дрозды. Здесь было много черного. Черная большая змея гибко переползла дорогу. Черные жуки-скакуны перебегали там и сям. Я отвернул влажный черный камень, и под ним беспокойно завозился черный, вполне настоящий скорпион. Я никогда не видел живых скорпионов и почему-то представлял их желтоватыми. Похожий на маленького рака скорпион совсем не торопился бежать. Подняв торчком свой хвост, он независимо переступал паучьими лапками. Весь вид его говорил: никого не боюсь, попробуй задень-ка меня! Я тронул его гнилым прутиком, и скорпион тотчас саданул в прут кривой ядовитой колючкой хвоста.
— Черт с тобой, сиди под своим камнем,— сказал я, заваливая булыжник на место.
Скоро перелесок кончился. Мы вышли на просторную плантацию. Тут росли персики, абрикосы и орех-фундук в бледно-палевых обертках, очень похожий листвой на обыкновенную нашу ольху.
Где-то журчала вода.
Где-то стучал дятел.
— Съешь орешек,—сказала сестра, протягивая руку к ветке.
— Что ты, что ты...— испугался я.— А вдруг сейчас появится какой хозяин и закричит?
Впереди открылась низкая ложбинка. Роща длинно-иглой сосны-пинии темнела за ней. Стояла на переднем плане величавая и тенистая кавказская липа. А под липой, совсем как на французских пасторалях, любезничала парочка, ушедшая подальше от глаз людских.
В ложбине у грязной лужи бегали, задирая хвосты торчком, все те же черные дрозды. Их было не меньше десятка. Едва мы подошли ближе, дрозды заквохтали, зачакалй и полетели во все стороны. Коричневая грязь по краям лужи была в крестиках их следков.
Благодаря пророчествам Козленко я не рассчитывал встретить здесь в таком изобилии этих интересных птиц и не взял птицеловной сети. Со мной был лишь маленький лучок-самолов. Его-то и установил я на грязи возле лужи, насыпав в прикормку мелких бабочек, мух и лесных клопов.
Как я сожалел, что не привез с собой личинок мучного хруща — самый лакомый корм для дроздов!
А потом мы ушли, поднялись повыше, сели на крутизне и замолчали. Было тепло, и был ветер. Шумела сосновая" роща, и море внизу зеленело свинцовой зеленью. Было видно, как цепочками бегут по нему белыши. Игрушка-кораблик тянул за собой двоящийся след. Белая бабочка промелькнула перед глазами, уселась на цветущий татарник. Это был каменный сатир. Он покрутился по малиновому соцветию и затих, сосал медвяный сок. Кружились тут же и обычные бабочки: репейницы и голубянки. Пара зеленых дятлов хлопотала на засохшем дубовом стволе, простукивая его со всех сторон.
— Даже не верится,— сказала сестра.— Мы где-то в горах. Там Черное море. Древнее море. Эвксинский понт! Сюда плавали греки! Здесь жила волшебница Медея и стояли забытые города. Погляди, там не видно греческих фелюг? А ведь море и тогда было такое же, и горы, и лес... Вот мы смотрели тисовые деревья. Им по две с половиной тысячи лет. Значит, они росли еще при персидских царях
Дарий и Ксерксе в пятом веке до нашей эры (сестра — историк и всегда ищет историю, даже в чебуречной).
— Да,— в тон ей сказал я,— они росли при всех Людовиках, бонапартах, мамаях, не говоря уже о династии Романовых. Просто удивительно, как это никто из властителей не повелел их срубить. Ведь властители стреляли зубров, травили оленей, жрали пироги из соловьиных языков, объедались паюсной икрой и все-таки упустили наслаждение срубить два тысячелетия сразу...
Она словно не слышала меня.
— А все-таки здесь все новое и древнее. Даже солнце. Тут очень ярое солнце...
И она потянула юбчонку на сожженные колени.
— Смотри-ка, смотри,— показал я вниз по склону, где росли два широких куста.
Черный дрозд нырнул в один из них.
— Видела?
— Да.
— Поняла? . — Нет.
— Зачем он в куст залетел?
— Ну, мало ли...
— Сиди и смотри, я схожу проверю самолов. Если в куст еще раз залетит дрозд, значит, там у них гнездо.
— А-а...
— Бэ-э...
Я ушел. В ложбине у лужи по-прежнему бегали черные птицы. Ни одна не думала соваться в мой самолов. Может быть, они стеснялись той парочки, что обнималась под широкой липой?
— И аллах с вами! — сказал я, снимая снасть.
— Туда еще дроздиха залетала,— радостно сообщила сестра, указывая на куст.
— Пошли искать...
Мы спустились по пояс в траве к темным кустам, которые оказались ни больше ни меньше как лавровыми!
Подумать только — настоящий благородный лавр, которым увенчивают победителей и лауреатов. Лавровый лист! Лавровый куст!
— Ты ищи там, а я здесь,— показал я спутнице на другую сторону куста.
Продолжение рассказа о Дроздах,читайте во 2 части рассказа
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.