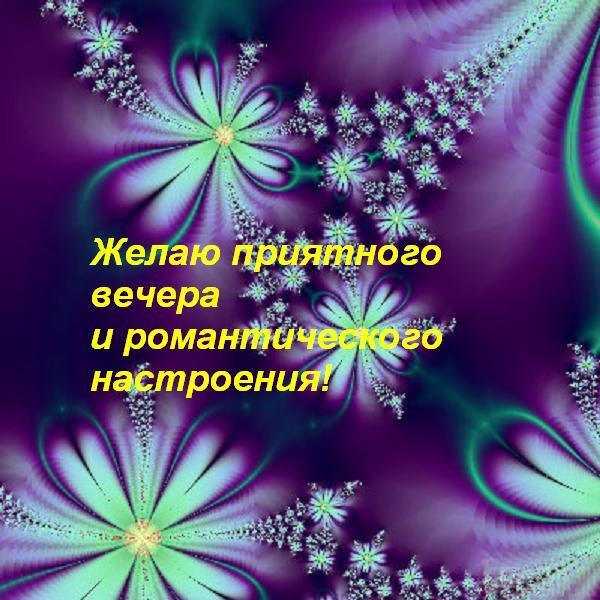С погребом он управился быстро, еще быстрее поставил Вовке катушку: сколотил козлы, с них в наклон пустил две доски, прикатил чурбан, чтоб ловчее залезать, наносил от колонки воды — накатистая, звонкая вышла катушка. Конечно, обновили ее. И фанерками, и подошвами, и просто штанами навели завершающий глянец. Покричали, поойкали, повизжали. Все. Пора по домам, никакого заделья на глаза не попадалось. Иван заметил, что, прощаясь, Татьяна уже не приглашала заходить на чай да на домашнюю стряпню: «Спасибо, до свиданья, Таборову привет». А Ивану, значит, от ворот поворот. «Ясно. Видала она таких помощников. Не для тебя, Ваня, и спокой этот, и голос тихий, и улыбка необыкновенная не для тебя. Ну, ладно. Обойдемся. К Вовке-то я могу ходить? Должен же кто-то пацаном заниматься?!»
В понедельник Таборов спросил:
— Был?
— Ну. Ирается тебе.
— Как она там?
— Жива, здорова.
— Что сделал?
Иван сказал.
— Смотри-ка. Проворный ты, Митюшкин. Бережешь — не скажу, что секунды, но минуты уже бережешь. Выношу благодарность. Устно. Запомнил?
— Иди-ка ты.
— Так. Уголь мы ей завезли, дрова тоже. Побелено, покрашено, картошка в подполе, и ты, значит, окончательный марафет навел. Теперь до конца месяца протерпит. А то у нас сейчас взахлеб дела.
— Вот что. Чтоб больше об этом не говорить. Не посылай больше к ней никого. Мне не трудно, и время у меня всегда есть.
— Даже вон как! — Таборов попробовал откинуть голову — этак сторонне оглядеть Ивана, но шея была так коротка и крепка, что голова только дернулась.
— Ты против, что ли?
— Не знаю. А ты почему такой шустрый?
— Ты запомни: мне не трудно туда ездить.
— Запомнил. Она тебя просила?
— Нет. Сам так решил.
— И что из этого выйдет?
—¦ Не знаю.
— Как мужик мужику. Езди, конечно. Тут не запретишь. Но крепко подумай.
— Подумаю.
— Вопросов нет. Разве что последний: время, значит, пришло?
— Иди-ка ты.
В тот же вечер Иван поехал на правый берег. Татьяна уже не удивилась, не поздоровалась, а молча, чуть прищурившись, ждала, что же он теперь скажет. Иван, с торопливой, ненавистной себе, какой-то дрожащей бойкостью в голосе, объяснил:
— Коньки вчера Вовке обещал. Ну и сегодня сварил
маломальские.
Он поспешно развернул газетку, показал двухполозные самоделки и надеялся, показывая, что Татьяна отмякнет, подобреет, вернется на ее лицо усмешливо-ласковая, затаенная горечь, которая с мучительной силой притягивала Ивана.
— Вовка, Ваня твой пришел.
«Больше ни за что не приду! Так тебе, дураку, и надо! Ждут тебя тут, как же!» Но, конечно, приехал на следующий день, не придумывая никаких объяснений. И весь вечер играл с Вовкой в «морской бой».
Так и ездил, справляя должность великовозрастного Вовкиного приятеля, и, кстати, был доволен ею. «Ох и смешно, наверно, со стороны смотреть на меня. А что поделаешь, если сказать боюсь? Скажешь, а она вообще больше не пустит. Уж лучше молчком. Чем-нибудь да все равно это кончится».
Однажды он не приехал — не пустила сверхурочная работа. Когда появился на правом берегу, Вовка гордо сообщил:
— А я из-за тебя с матерью разругался!
— Как?! — У Ивана замедлилось сердце.
— Я ее спрашиваю: «Не знаешь, куда Ваня делся?» А она: «Отгул, — говорит, — взял, а то уж больно зачастил». Я — ей: «А тебе что, жалко, что ли?»
— А она?
— В угол меня и не разговаривает.
Иван понял: пора для серьезного разговора пришла. Чем дальше откладывать, отодвигать, даже и слово «нет», тем горше опустеет Вовкино сердчишко.
Он без оглядки, звенящим голосом спросил Татьяну:
— Говоришь, зачастил? А что делать?
— Наябедничал все-таки. Говорила, Ваня, говорила, — спокойный прежний голос, но вроде чуть спешит, скрывает какую-то тревогу. И он — привычно уже — догадался: Татьяна не хочет объясняться под этой крышей и не знает, как предупредить объяснение.
— Ты дежуришь сегодня?
— Да.
— Я зайду к тебе?
— Ночью-то? Не уедешь потом.
— Что ж, что ночью.
— Заходи.
Муж ее погиб ясным сентябрьским днем, когда даль. просторна и солнечно-грустна, а воздух сух и сгущен до прохладной голубизны.
Татьяне позвонил тогда Таборов, сказал: «С Сашкой беда».
С бесслезным, почерневшим сердцем, терпеливо, каменно сжавшись, она ехала в котлован по дороге, тихо освещенной солнцем и желтой парящей листвой, и щадила себя, надеясь: «Покалечился? Зашибся? Господи, Сашка, Сашка! Лишь бы жил, жил!» — неужели беда и на такой день имеет право?
Сашка лежал на деревянных сходнях в тени скалы, с которой сорвался. Кто-то укрыл его брезентовым фартуком, но лицо прятать не стал. Устало опущенные губы, сонно закрытые веки, легкий низовой ветерок в веселых соломенных кудрях — сморила человека работа, прикорнул в тенечке. «Все, все, все!» — поняла Татьяна, никто не будет укрывать живого таким старым, выгоревшим, в растворных брызгах фартуком. Она подняла глаза на скалу: диабазовые уступы и башенки заливало небесным слепящим, праздничным потоком, и эта праздничная голубизна так больно и бесцеремонно ударила в сердце, что Татьяна упала рядом с Сашкой и сухо, невозможно закричала:
— Не прощу-у!
Стоявшие вокруг Сашкины товарищи виновато склонили головы, подумав, что это им- не простит Татьяна, это они недосмотрели, отпустили его на скалу без монтажного пояса.
Но не их судила Татьяна этим страшным криком: обеспамятевшее сердце ее не приняло столько боли враз. Сашка, она, их непрожитая любовь, теплое Вовкино посапывание в плечо отца, голубое праздничное небо, осенний счастливый покой, томящий душу ожиданием еще какой-то радости, — все, все летело, проваливалось в тьму, в смертную тьму: как можно смерть понять и как можно ей простить?
В дни похорон ей удалось упрятать это «не прощу!» в глубь онемевшей, смерзшейся души и не выпускать, удерживать до последнего кладбищенского прощания. Когда споро и бойко застучали молотки могильщиков, Татьяна оттолкнула их, упала на колени, обняла гроб и снова сухо, невозможно закричала:
— Не прощу-у!
Сашкиным товарищам послышалось, что она кричит: «Не пущу!» Они постояли, склонив головы перед наивностью горя, затем подняли Татьяну и отвели в сторону. А день опять был золотой, легкий, прозрачный. Меж кустов и деревьев приготовилась ловить первый снег паутина, а пока что останавливала запахи близких огородных дымов. Сырая земля высохла, согрелась и рассыпчато потекла на последнюю Сашкину кумачовую крышу.
Татьяна не заметила, в какой день и час отпустила, не застила больше свет глухая и слепая боль, освободив сердце для спокойного, медленного горя, которое не мешало работать, ругать и ласкать Вовку, сдержанно-устало объяснять ему: «Папа уехал. Не знаю. Когда вернется, тогда вернется. Как с делами управится. На кудыкину гору. На север уехал, на север». Горе позволяло и улыбаться, но, верно, с какою-то машинальностью: чувствуешь, губы шевельнулись — и все, вроде не твоя улыбка, вроде как по заказу, вроде чужой команде подчинилась — в этом месте улыбнись, положено.
В сороковины она пришла на кладбище. Холодная, моросящая жижа — ни дождь, ни снег: пустынное скорбное пространство; убогая зелень неживых, металлических листьев — Татьяна не заметила всего этого, присев на скамеечку возле Сашки. Но леденящее кладбищенское одиночество, неслышно ступая по раскисшей земле, вскоре окружило ее, присело рядом, бесцеремонно потеснило, подтолкнуло плечом: очнись, заметь меня. Татьяна огляделась: как пусто, сыро, черно кругом! С могильной тумбочки на нее смотрел, улыбаясь, Сашка, словно собирался сказать, как не раз говорил когда-то: «Ну, мать. Не хнычь. Кукситься хорошо, кому делать нечего». Татьяна закрыла глаза. И, как бы помимо чувств, помимо рассудка вошло в нее сознание, нет, ощущение, состояние какой-то особой, редко выпадающей прозорливости: исчезнут эти дни, составятся годы, и никто, никто не будет помнить Сашку, ни одна живая душа! Его не будет — и рассеется, исчезнет память о нем. Он был хорошим человеком, очень хорошим. Ее мужем. Но этого так мало, чтобы люди не забыли его. «Сашка, Сашка! Никакой родни у тебя, кроме меня. Только я тебя и запомню, только я и смогу. Сашка! Если я тебя забуду, пусть мне будет хуже всех на свете! Хуже нищенки, старухи одинокой. Слышишь? Не забуду, не забуду, не забуду!» — повторяла и повторяла Татьяна, с внезапной суеверной ясностью поняв: она не посмеет, никогда не посмеет забыть этой клятвы.
По прошествии времени, по истечении некоего житейского срока, отпущенного подругами и соседками на вдовий траур, они подступили к Татьяне с разговорами: «Тань, пора уж и на людях показаться. Не век же одной сидеть». «Танька, да ты только мигни — женихи стаей слетятся». «Танюшк, вон на Амурской, возле магазина, тоже вдовец живет. Серьезный мужчина, самостоятельный, машину держит. Парнишке-то отца надо. Одна, девка, не справишься».
Она либо отмахивалась, либо с равнодушной улыбкой говорила: «Ох, и нелегко свахам хлеб достается. А от меня и крошки не перепадет. На меня угодить трудно».
Заглядывая в дальнейшую жизнь, Татьяна видела: как бы истово она ни помнила Сашку, но ради Вовки и, уступая своей долгой еще молодости, ей придется — уже при трезвом сердце — соединиться с каким-то человеком. Но этот человек должен уважать ее прошлое, беречь ее память, не требовать всего сердца, потому что никому, никогда не сможет она теперь отдать всего сердца.
Иван приехал последним автобусом. В стылой радужной мгле тепло желтело окно автостанции. Иван остался на улице: не с шофером же заходить! Но и когда тот, отметив путевку, вернулся в кабину, погазовал на месте, посигналил, торопя случайных полуночников, Иван все кружил и кружил вокруг вокзала, тянулся на цыпочках к желтому окну, и вдруг от затянутых льдом стеклим наносило на него таким жаром, что он сдвигал шапку на затылок, утирал лоб: «Вот жжет меня, прошибает. Боюсь, что ли?»
Еще в автобусе он придумывал, что же скажет Татьяне, какие слова, но не придумал — помешала откуда-то взявшаяся вдруг мелочная наблюдательность: Иван замечал, и кто входил, и кто выходил, и какие машины встречались и обгоняли автобус, со странным вниманием прислушивался к разговорам соседей. Наконец разозлился: «Да что это я! Еду, можно сказать, за судьбой, а всякими глупостями отвлекаюсь!» И тут же понял: он нарочно отгоняет решительную думу, не то боясь ее, не то смущаясь, самому было непонятно. Хотел вот на воздухе подумать, сосредоточиться, а вместо этого кружит и кружит, напала какая-то пустая расслабляющая жара. «Сейчас сюда милицию — и меня заберут. Точно. Скрадываю прямо-таки эту диспетчерскую. Жулик и жулик — кто посмотрит».
Он решительно вошел и хрипло-настывшим голосом сказал:
— Добрый вечер, то есть добрая ночь!
— Да уж, добрая. От мороза моя контора того и гляди развалится. — Татьяна была в черном свитере, на плечах — белый прозрачный шарф, белизна его как бы охлаждала, смиряла смуглый пыл Татьяниных щек.
«И она, видно, волнуется», — обрадовался Иван.
— Я уж не ждала тебя. Думала, на автобус опоздал.— Голос, однако, ровный и глаза прежние, неподвижно-темные.
«Ждала, ждала!» — опять обрадовался Иван, хотя долею рассудка и окорачивал свою радость — и черным боком это свидание еще может повернуться.
— Нет, как раз успел, да с шофером не хотел заходить.
— Поди, озяб, ног не чуешь?
— Что ты! Не погода — Ташкент. Я вообще холода
не замечаю. Не думаю о нем и не замечаю. — Иван снял
, пальто, бросил на стул.
— Чайник сейчас включу. В Ташкенте тоже чай пьют.
— Тебе не чайник, самовар надо держать. Шофер за¬мотается, спит на ходу, а ты ему — крепенького, горя¬ченького.
— Ага, дождешься их. На ночь три машины оставля¬ют, а я их почти не вижу.
— А если кому срочно потребуется? На самолет или еще куда? — Ивану стало совестно: «Так всю ночь можно проговорить и ничего не сказать. Не ей же начинать, мне. А я мелю и мелю...»
— Тогда на своих двоих.
— Таня! Так что же делать? — Иван спросил звонким, напрягшимся голосом, хотел зажмуриться от муки, которую вытерпел, говоря это, но удержался, и отдало в глазах горячей резью. — Люблю я тебя.
Она слабо, неуловимо то ли вздрогнула, то ли покачнулась, с какою-то беззащитною плавностью отверну¬лась, потупилась, собрала, стянула на груди шарф, словно защищалась, закрывалась этим белым крестом от Ивановых слов.
— Слышишь? Таня?
— Да.
— Что ты мне скажешь? — У него уже перехватывало, горело горло.
— Не знаю, Ваня. Может, ты не там свое счастье ищешь? Ведь жизнь-то у всех одна. И у тебя тоже. Ты подумай, Ваня.
— Я уже думал-передумал — надоело! Ты мне скажи: ты-то согласна, что я тебя люблю? Согласна?!
— Да.
Жаркая, нервная лихота, одолевавшая его весь вечер, наконец отпустила, сникла, и Иван почувствовал, что тело как бы пустеет — уменьшается, сужается, — и от этого странного ощущения каменным бессилием налились руки и ноги — Иван очутился на стуле рядом с Татьяной, и так они сидели друг подле друга, молчали и никак не могли остановить эту молчанку, словно она теперь распоряжалась их союзом.
Иван удивлялся: «Вот же собрался, все сказал — должно бы повольнее стать, вроде не чужие больше, осмелеть бы можно, а все наоборот выходит: и язык как отнялся и шевельнуться боюсь. Другое какое-то неудобство вынырнуло — смотрю на нее, сердце переворачивается: такая она мне нужная — хоть плачь! Погладил бы, обнял, на колени встал, чтобы видела только, что каждая жилочка ее мне драгоценна, а вот ведь не сдвинусь, не осмелюсь, хоть убей меня!»
Он видел, что может обнять ее, поцеловать — она же сказала «да» и, наверное, готова к его ласке, вон как напряглась, но душевное зрение останавливало его, удерживало: стерпит, примет ласку, но еще крепче сожмет шарф, еще беззащитнее после этого отвернется. Надо дождаться, пока из благодарности к твоей выдержке она сама нз потянется, не приласкает тебя.
Он и уйти хотел молча, лишь коснулся легонько, нечаянно-понимающе ее плеча, но вспомнил про этот дом на правом берегу — не в нем же оставаться, но и не в общежитие же переходить? Затоптался на месте, закашлял, шапку истерзал в кулаке. Татьяна поняла:
— Ты же говорил как-то. Многим, мол, свою грядку
надо. Может, поищешь таких?
Он обрадовался и тут же отчаянно покраснел, обваренный кипящим свинцовым стыдом: «Мужик тоже! Как приживальщик, на чужой дом позарился! И деться тебе некуда, не можешь ты ждать! Тьфу на тебя!» И вместе со стыдом, изгоняя его, торопливо заполнила Ивана радость: Татьяна все, все понимает, идет навстречу, значит, тоже хочет быстрее быть вместе. И, потеряв голову от этой радости, от этого стыда, он ткнулся губами Татьяне в руку и убежал.
8
Вовка, узнав о скорых переменах, сказал:
— Ваня, давай сразу договоримся: как мне тебя звать-то?
— Да ладно, Вовка! Хоть под землю с тобой провались!
— Просто «папа» я тебя тоже не могу звать. Все-таки ты не всегда моим отцом был, только сейчас станешь. Давай, я тебя папа-Ваня буду звать? И по-старому и по-нозому. Давай?
— Договорились!
Перед новосельем Иван засомневался: приглашать ли бригаду — ненужной болью может отозваться в Татьяне это давно знакомое застолье. Но н не приглашать тяжело: скажут, зажал Ванька новоселье — углы обвалятся и в семейной жизни не повезет. О сомнениях своих, конечно, промолчал, и уже было решил: «Ладно, без гостей обойдемся», — но Татьяна сама напомнила:
— Обязательно ребят позови. Я же вижу, как ты гадаешь: ловко, неловко, удобно, неудобно. Обязательно позови.
— Все-то ты видишь. Молодец.
— Да уж молодец. Вовка не слышит, а то бы добавил: как соленый огурец.
Поначалу новосельный пир горел ровным, аккуратным пламенем: женщины чинились и останавливали щедрую руку хозяина: «Нет, нет, мне самую малость, донышко закрыть». Мужчины солидно томились, скованные галстуками и пиджаками, — никого пока не проняло внутренним вольным весельем. Подняли Таборова, потребовали сказать слово. Он покрутил мощной шеей, расслабил галстук, расстегнул воротник, освобождая стесненное горло:
— Самое время, ребята, выпить за Татьяну и за Ивана. И пожелать им счастья. Прошу всех встать, запомнить эту минуту и выпить до дна!
Пир разгорался. Мужчины уже курили, скинув пиджаки, уже кто-то с обидой спрашивал: «Да разве ж на скальных работах по стольку плотят?!», уже пылал на женских лицах свежий, юный румянец, и кто-то с хмельного призывной звонкостью проголосил: «Ох, девки, и горька у хозяев бражка!» Сразу же несколько голосов подхватили, пропели:
— Горько! Горько!
Татьяна спрятала лицо в ладони, вскочила, убежала на кухню. Иван нелепо сморщил губы и как-то виновато, растерянно приподнял плечи: я-то, мол, все понимаю, а ей-то каково? Смущенную тишину за столом тотчас же прекратил трезвый, веселый голос Таборова:
— А ну-ка, братцы! Три, четыре: «Эх, загулял, загулял, загулял...»
Иван вышел на кухню. Татьяна стояла у окна, все еще пряча лицо в ладонях. Он отвел их: сухие, горячие, больные глаза смотрели на него. Татьяна лбом прижалась к его плечу.
— Ох, Ваня, Ваня. Натерпишься ты со мной! Намучишься.
— Знаю. Знаю я это! Но все равно, все равно!
Полная январская луна за окном ярко и печально освещала сугробы на пустыре и голубовато-черную гряду ельника в конце его.
Когда Иван соглашался: «Знаю я это!» — он хотел лишь утешить Татьяну, пониманием своим оградить от прошлого, но на самом деле не поверил Татьяниным словам: начнутся их совместные дни, и некогда будет мучиться— жизнь напориста, быстра, беспамятна и оглядываться не любит. Кроме того, Иван сильно надеялся на свой характер: «Да я расстараюсь, расшибусь для дома — в мужике главный смысл, если он хозяин, если баба за ним, как за каменной стеной. Нет, все по уму у нас будет! Она увидит, поймет, как я ее люблю. Может, и он ее так не любил?»
Татьяна уже видела, что Иван не умеет сидеть без дела, но таких бурных стараний, которыми окружил ее, Вовку, дом, Татьяна не ждала и даже испытала некоторую растерянность и смущение. Она возвращалась с дежурства и только руками всплескивала: опять он вымыл пол или выстирал белье, сварил обед или опять принес Вовке какую-нибудь обнову. Дождавшись его со смены, подав чистую рубашку после душа, накормив, она выговаривала ему с тою ласковою усмешливостью, с какою обычно укоряла Вовку:
— Ты что же, барыню из меня хочешь сделать?
— Это я загодя, авансом отрабатываю. Вот учиться пойду, отпомогаюсь.
Осенью он собирался в вечерний техникум.
— А Вовку зачем балуешь? Третий костюм, как у доброй модницы.
— Ничего-о! Жених же растет. Когда-нибудь отквитает. Будет на старости баловать. Мне — чекушку после бани, тебе — косынку к Первомаю.
— Ваня, серьезно, не стирай ты больше — соседи за-меют.
— Да я же по пути. Не заметил как.
— Ага, так один не замечал, не замечал. Заметил, когда шея заболела.
— У меня крепкая. Хочешь, верхом покатаю?
— Можешь, можешь, знаю. Ваня, не надо! Не балуй... Да совестно же!
Ее стыдливая девическая сдержанность в ласках, какая-то пугливая щедрость в минуты близости еще более укрепляли готовность Ивана служить ей, прислуживать, с ума сходить, что она есть. В нем пробилась странная тяга к внезапным, бесцельным поступкам, до которой никогда прежде не добирался его практически деятельный ум. Он вдруг замечал на попутном кедре особенно сочную и зеленую ветку, ярко притихшую среди других, заснеженных и обыкновенных. Иван приносил ветку домой, протягивал Татьяне:
— Это не я. Какой-то парень на улице подходит, просит: передай своей ненаглядной—и как сквозь землю. Думаю, не выбрасывать же. Держи, ненаглядная.
— Давай, давай, сочиняй. Не на тебя парень-то походил?
Она улыбалась, и ее спокойные темные глаза на миг оживлялись каким-то растерянно-грустным отсветом, бликом, теплой мелькнувшей тенью.
Иван краснел: «Наверно, думает — блажь у мужика. Веточки носит. Смешно, конечно, если подумать: никакой пользы от этой веточки. Да ладно! Я-то не думал — принес и принес. Захотелось».
Однажды его остановил закат: розовые и нежно-зеленые слои облаков переливались, млели над влажно почерневшей мартовской тайгой; близкие белые острова на Ангаре неожиданно удалились, уединились в некое недостижимое, розово-зеленое пространство. Иван посмотрел, посмотрел на эти чудеса, пожалел: «Вот Татьяну бы сюда!» — но тотчас же засмеялся вслух, представив, как два взрослых, трезвых человека стоят на обрыве и говорят друг другу: «Ты посмотри, красота какая, а! Нет, чувствуешь, как дышится?» —- комедия, да и только. Тем не менее и дома он долго помнил, видел этот закат и не утерпел, смущенно погмыкивая, сказал Татьяне:
— Солнце сегодня садилось — случайно со скалы видел. То зеленым мигнет, то розовым. Будто заманивает куда-то. И что-то так я засмотрелся — веришь, нет — показалось, ты рядом стоишь. И не знаю почему, я подумал: нам долго, долго жить. Вроде как никогда никуда не денемся.
И опять он заметил в ее глазах грустную растерянность — мелькнула и пропала, и Татьяна быстро, легко коснулась пальцами его щеки, лба — то ли согласно, то ли виновато.
Лучше бы ему не попадалась эта фотокарточка. Татьяна была снята летом сидящей в развилке старой березы, и тень живой листвы мешалась с листьями сарафанного узора. Татьяна сидела* удерживаясь руками за ветки. Влажно искрясь, блестели зубы, волнующе-сочно темнели губы, а глаза горячо и счастливо выплескивали, отдавали смех тому, кого не было видно на фотокарточке. «При мне она так никогда не смеялась», — подумал Иван, и сердце как бы окунулось, ухнуло в тоскливую холодную пустоту, мгновенно поняв, почему Татьяну не оставляет ровная, далеко упрятанная грусть, почему она бывает растеряна и смущена его отчаянным влюбленным вниманием. «Она не забыла той жизни, не хочет забыть. И меня неохота обижать. Если бы забыла, и мне бы так смеялась, так радовалась. Ей неудобно, когда я веточки приношу, руки целую. Она боится вовсе-то мне поддаться — тогда все, все забыть надо. Вот и рвет сердце, не дает ему волю! И дитенка мы никогда не дождемся. Ни сына, ни дочки. Память-то в сердце хочет держать, а пока не переступишь ее, другому целиком не доверишься. Дитенок бы все переменил! Никто же не виноват, никто! Никто, никто. Вины нет, а муки много».
Теперь он с душевною болью замечал, как пустеет иногда, переносится куда-то Татьянин взгляд, отрываясь от книги, или от шитья, или другого рукоделья. Иван спрашивал напряженно-безразличным голосом: «Ну-ка, ну-ка, расскажи, где, что увидела? Проглядишь глаза-то». И знал, что Татьяна с коротким, скрываемым вздохом ответит: «Да я просто так, задумалась». «О чем?» — опять спрашивал он. «Да уж не помню», — опять отстраняла его Татьяна.
«Что ей еще не хватает? Только что на руках не ношу. Другая бы молилась на такого мужика! — временами поддаваясь обиде, раздражался Иван. Но тут же спохватывался. — Не могло быть другой! Не надо мне другой! Пусть так, как есть. Пусть!»
Как-то он спросил Таборова:
— Слушай, а что за парень этот Сашка?
Спросил вроде бы невзначай, между прочим, умышленно пропустив слово «был»: догадается Таборов, о ком речь — хорошо, не догадается — еще лучше. Таборов догадался и после затяжного, пристального раздумья сказал:
— Парень как парень, Ваня. Обыкновенный. Как мы с тобой. Не лучше, не хуже... Еще что-нибудь хочешь знать?
— Нет. Все ясно.
«В том-то и дело — обыкновенный, — думал Иван. — Если бы был какой-нибудь выдающийся, семи пядей во лбу, я бы легко понял, почему она его помнит, не хочет забывать. А так — не догадаться, так в ней все останется, никого не подпустит. Вот я ее люблю, а как люблю, как с ума схожу, и она полносты-то не узнает. Обыкновенное-то — самое потайное и есть, так что изводись не изводись, а терпи, люби, понимая — не понимай. Вот и мне теперь ясно, что такое «на роду написано» и с чем его едят».
Так прошел год, приближалась весна второго.
и
Напрасно Татьяна верила, что прошедшие дни уживутся с нынешними. Та осенняя горькая клятва на Сашкиной могиле «Только я и не забуду! Слышишь?! Никогда!» — с прежней силой угнетала сердце, не вытеснялась новой жизнью, сулившей одно только счастье. Напротив, чем обильнее и щедрее выказывал свою любовь Иван, тем упрямее и настойчивее отстранялось от нее Татьянино сердце. Нет, беспрекословного подчинения прошлому не было, какою-то долею сердце жалело Ивана, тянулось к нему, но оно и не рядилось с прошлым, не выторговывало у него никаких уступок: «Я буду помнить обязательно, но и ты дай послабление», — не взвешивало хладнокровно, что лучше: помнить или забыть — нет, нет, нет! Сердце разрывалось от мучительной перегрузки: невозможно жить в прошлом и настоящем, невозможно настоящее предпочесть прошлому!
Татьяна думала: «Господи! За что я его мучаю? Зачем я согласилась— ведь я знала, знала: не смогу, не забуду, а он мне руки целует, Вовку от него теперь не оторвать, жалко мне его, стыдно, что любить не_ могу. И не скажешь — уж совсем без сердца быть, привыкать стала. А он же видит, чувствует, ему половинок не надо, ему все сердце, всю душу надо. Дай отдала бы! Ноне могу, сил таких нет! Вон он как в глаза заглядывает, как спрашивает: «О чем думаешь?» Отвечать не надо, знает. Знает, да не все», — и Татьяна с тоскливым, жарким стыдом
сознавала, что никогда в ней больше не вспыхнут те смешные, глупые, только для беспамятных минут слова, которые все достались Сашке, никогда она не сможет быть такой беспричинно счастливой, озорной, какой была при Сашке, не сможет так петь, плясать, хохотать, дурачиться, как это бывало с ней при Сашке. Потому что все это неповторимо, И стыдно, невыносимо стыдно даже подумать, что может забыться и вдруг засмеяться или запеть, как прежде. «Вот ведь как жизнь с нами обходится! Нет, чтобы ему с девчонкой какой-нибудь повстречаться — уж как бы она любила такого! Все, все бы у него было, все бы сначала испытал, как и положено человеку. А тут я на дороге, нет, чтобы отвернуть мне, стороной обойти — поддалась, отняла у парня самую сладкую пору. А с Вовкой-то, с Вовкой что будет, если я не вытерплю?! Хоть не думай совсем. Может, и не надо думать? Бывают же дни, да что там дни — недели, я совсем успокаиваюсь, и рада своей жизни, и Ивану рада. Совсем, совсем спокойная душа бывает. Если б не знала, как ее в один миг скручивает, может, и остановиться бы на этом покое... Нет, нет! Нет! Потом-то как страшно, как совестно! Будто не человек я, а дворняга захудалая: нашла теплый угол, хозяина доброго и разнежилась — лапки кверху! Ведь память-то для дела дана, не просто так! Кто же, кто же его-то помнить будет?!»
На родительский день угадал последний майский холод, с ветром и мелким ледяным дождем. До кладбища Татьяна добралась совершенно продрогшею и съежившейся, но, глянув на Сашкину карточку, коротко вскрикнула, и разом согрела ее быстрая, тяжелая волна суеверного ужаса: Сашка больше не улыбался, а смотрел как-то мутно и жалко. «Из-за меня, из-за меня! Бросила, забыла! Сашка, не надо, не буду!» Она упала на мокрую, грязную, еще желтую траву, обняла, обхватила могильный холм, не зная, как искупить, вернуть силу забытой клятве.
Потом она опомнилась, поняла: Сашка не изменился, просто дождевые потоки на портретном стекле так исказили, затуманили его лицо, но не могла уже вовсе заглушить суеверного страха и горячечного, бесповоротного раскаяния. «Сашка, Сашка! Я все помню, я буду помнить! Не думай, это не трудно — я поняла. Вон вокруг сколько людей помнят, плачут, ни дождя, ни холода не видят. И я так смогу! И я так буду!»
Иван знал, что Татьяна собирается на кладбище, потому что увидел на шкафу букет бумажных бело-розовых цветов, хотя сама она ничего не сказала. Он работал в третью смену и утром, возвращаясь из котлована, все поглядывал на низкое свинцово-белесое небо: «Как она поедет? Простынет, как пить дать. Но не остановишь же — такой день». Он вспомнил неожиданно поговорку, слышанную в детстве то ли от матери, то ли от бабки: «Дождь на радуницу — не обрадуешься». И, увертываясь от хлесткого ветра, согласился: «Уж это точно».
Ближе к вечеру он сбегал в магазин, купил вина, прибрал в доме, привел Вовку, они проиграли, проговорили до девяти вечера. Татьяна не возвращалась. «Да, такой день. Ни на автобус, ни на такси не попадешь. Замерзает уж, поди, совсем»,— объяснил себе Иван, стараясь не волноваться. Уложив Вовку спать, собрал на стол. Татьяны не было.
Он уже надел спецовку, сапоги, завернул бутерброды — до «дежурки» оставалось меньше часа, когда Татьяна вернулась. Промокшая до ниточки, посиневшая, измученная. Иван перепугался, захлопотал вокруг нее, забегал. Растер полотенцем, переодел, напоил горячим чаем. Она молчала, а он ни о чем не спрашивал.
Глянул на часы: пора бежать, «дежурка» ждать не станет. Он разлил по стаканам вино и сказал:
— Давай помянем хорошего человека.
Татьяна бурно вдруг разрыдалась, кинулась к Ивану на грудь: «Ваня, Ваня! Какой же ты все-таки!» Он молча гладил ее плечи. «Вот уж действительно: дождь на радуницу — не обрадуешься».
До котлована он добирался пешком, да и то подмывало вернуться: когда уходил, Татьяна все еще не успокоилась, всхлипывала, и без конца повторяла: «Ох, Ваня, Ваня!»
Утром на кухонном столе он увидел открытку, при: слоненную к тарелке с завтраком. «Ваня, прощай. Мы уезжаем. Напишу потом». Он покрутил открытку, вышел в комнату, точно собирался посмотреть, как же они уезжают. В комнате в самом деле была прощальная, нежилая чистота и прибранность. Иван сначала не понял, почему же нежилым на него пахнуло, — да, вон что: ни одной Вовкиной игрушки, ни одной вместе выструганной палочки, ни одной выпиленной фанерки. Иван поверил, с бессонной, тупой резью в голове подумал о Вовке: «Как же ты, парень? Батька, папу-Ваню и продал? Не сказал, не простился, Вовка, пацан ты мой сердечный!.. Извини, парень, извини. Долго ли тебя уговорить, наобещать, сказать, что не успел папа-Ваня, на работе застрял, а вы, мол, скоро вернетесь. Уже, мол, простились с папой-Ваней, вчера, ночью, он, мол, тебя будить не хотел. Извини, Вовка, не то подумал».
Иван вернулся на кухню, поставил открытку на прежнее место. «Ваня, прощай...» Вот те раз. Как прощай? Куда уезжаем? Да ладно тебе, папа-Ваня. Все ты замечательно понял. Не смогла больше, не вытерпела... То-то она так ревела. Видно, уже решилась. Может, не ушел бы — не уехали? Может, уговорил бы? Вот и «быкай» сиди, гадай: может да может. Да она что?! Как же я без Вовки-то?! Скворечню вот собирались делать... «Потом напишу» — рассудила, решила, а я-то, я-то куда уеду?!»
Он хотел подняться, бежать на вокзал, в порт, узнавать, догонять, возвращать, посылать телеграммы, но сидел и сидел — так невозможно огрузла, каменно потяжелела душа.
Сквозь жидкие стены донесся из чужой квартиры голос диктора: «Местное время четырнадцать часов». Иван вспомнил, что в три должен быть в подшефной школе, его очередь. «Пойду, пойду. Обязательно пойду!» Он бросился в ванную, побрился, вымылся, наодеколонился, надел белую сорочку с галстуком, парадный костюм.
В школе, оказывается, проходила встреча с людьми интересных профессий, и от Ивана требовался «краткий, но романтичный рассказ (слова молоденькой учителки, ответственной за встречу) о самой мирной на земле профессии». Иван сидел в президиуме, но не слышал, как хвалили свою работу врач, журналист, машинист электровоза, а вместо ребячьих лиц видел белые смутные пятна — все пытался утихомирить раздраженно-усталую голову, которой досаждала дикая, неизвестно откуда взявшаяся мысль: «Вот сейчас возьму и скажу: при чем тут профессии? Дела всякого и на всех хватит. Вот жить вас никто не учит. А это главное. От меня сегодня жена ушла — тошно так, хоть вой. И никакая профессия тут не поможет».
Но, конечно же, справился с собой.
— Дорогие ребята! — сказал Иван. — Выбрать дело по душе разговорами не поможешь. Дело надо руками. пробовать. Приглашаю вас в бригаду, тем более каникулы у вас скоро. И дело узнаете, и заработок будет. С этим ясно. Мне другое дело поручено вам предложить.
Мы хотим памятник погибшему бригадиру поставить...
Это был такой человек! Замечательный! Его так любит...
Все любят до сих пор. Он, может, и не герой был. Обыкновенный строитель. Рядовой, как в газетах пишут. Но ведь и рядовому памятник должен быть. Вот вы и помогите нам. И, может, сразу поймете: кем вам быть.
«Вот понесло меня, — выйдя из школы, равнодушно, будто не о себе подумал Иван. — Таборов узнает, взбесится, тем более школьники согласились. А может, и не взбесится, когда узнает. В самом деле, памятник надо. Вон она его как любит. До сих пор». Он заторопился куда-то, как на пожар, аж легкие закололо. Только что не бегом мерил и мерил ветреные, холодные улицы. На одной его окликнули.
— Ванька! Ты на мастера, что ли, сдаешь — не догнать?
Запыхавшийся рыжий парень заспешил рядом — когда-то жили вместе в общежитии.
— А, Коля, привет!
— Вань! А я у тебя дома был. Еще собирался зайти. Холодильник покупаю, сотню не займешь?
«Какой холодильник? Вот сейчас возьму и скажу...»
— Пойдем, посмотрю. Если остались. Если есть,
займу.
На лестничной площадке его караулила соседка тетя Дуся, болезненно толстая старуха, не выпускавшая папиросы изо рта.
— Ваня, сынок! Пожалей старуху, помоги ковер выбить.
«Какой ковер? А! Никуда не денешься!»
— Минутку, тетя Дуся. Вот товарища провожу и займусь.
Позже он спросил у нее, спросил спокойно, устало, нисколько не напрягаясь при этом обмане:
— Не видела, как мои уезжали? Не мог со смены
раньше уйти и не знаю, такси-то пришло? Прямо изнервничался весь!
— Пришло, пришло. Я из окошка видела. Тоже удивлялась, что тебя нет.
«Ясно. Самолетом уехали, потому что до вокзала и без такси рукой подать».
Он побывал в аэропорту, походил по залу, заглянул в комнату матери и ребенка, в диспетчерскую — дежурил знакомый мужик, и Иван собрался уже спросить: «Моих не видел?» — но раздумал, осторожно прикрыл дверь и поехал домой. Он понял, что будет молчать, пока не признает, не узаконит вслух Татьянин отъезд, до тех пор можно будет надеяться. Только молчание теперь связывало их..
Дома он напился горячего чаю, и его сморило — задремал прямо за столом. Увидел Вовку, который спрашивал: «Папа-Ваня, ну, как ты там? Хвост пистолетом? Смотри. А не то живо — два подкручу», — увидел и себя, когда он говорил Вовке точно такие же слова.
Очнулся с липким похмельным потом на висках и на лбу. Губы запеклись, и во рту скопилась кислая горечь заспанной, но не забытой беды.
— Папа-Ваня, что же ты? — вслух спросил Иван. —
Как теперь-то будешь? А? Папа-Ваня?
Пора было собираться на смену. Ветер стих, зеленоватые майские звезды холодно и аккуратно заполнили очистившееся небо, схваченная последним заморозком земля твердо ударяла в подошвы—дни теперь пойдут сухие и жаркие.
«Дежурка» уже стояла на углу. Иван открыл дверцу, чуть подождал на подножке, пока не покачнулись, не потеснились широкие спины, и втиснулся в веселый, пр
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.